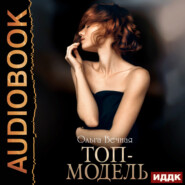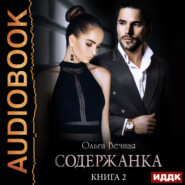По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Веселый Роджер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы тебя любим, сыночек мой хороший, мы тебя никогда не оставим. Все у тебя будет хорошо, мы справимся, Тёмочка.
– Мама, я заразный теперь, от меня надо подальше держаться, – мрачно произносит Артём.
Мне одному хочется его придушить, не дожидаясь, пока за дело возьмется СПИД, или вам тоже?
– Не вздумай так говорить! Никогда. Мы не боимся, Коля, да же?
– Справимся.
– В детстве, – нагнетает Артём, – когда я болел, ты всегда обнимала и целовала меня, помнишь, мам? Говорила, что не боишься заразиться.
– Не боюсь, конечно. Мы вместе пойдем к врачу. Продадим бабушкину квартиру. – У родителей есть немного недвижимости, которую они сдают и неплохо живут на аренду в том числе. – У тебя будет самое лучшее лечение.
– Спасибо, мам.
– А эта сука пусть только попробует на глаза показаться, – решительно говорит дядя Коля, – я за себя не ручаюсь.
– Зачем ты врешь? Мне просто интересно, вот зачем? – не выдерживаю.
Кустовы всей троицей смотрят на меня.
– Не так же все было.
– Вик прав, – кивает Артём. – Веру можно понять, любой был бы в шоке. Может, она одумается и вернется. Я же все еще люблю ее, идиот. И жду каждый день.
– Твою ж мать. – Я тушу сигарету в пепельнице и иду к выходу. Бросаться с кулаками на умирающего брата при матери – не лучшая идея, правильным будет уйти по-хорошему и как можно скорее. – Мне пора, работа. Извините.
Мать перехватывает в коридоре, тащит за руку на кухню, закрывает дверь и начинает кричать:
– Ты как себя ведешь?! Брату плохо, он нуждается в тебе, а ты что делаешь?!
– Мама, СПИД-терроризма не существует.
– Когда с тобой случилась беда, все кинулись на помощь! Всё делали, что могли, из кожи вон лезли. Артём каждый день звонил, в больницу мотался из общаги, с другого конца Москвы. Факультет приличный бросил, так как платить нечем было, все деньги на твои операции ушли! А у тебя работа вдруг появилась неотложная?! Да ты раньше обеда ни разу глаза еще не продрал!
– Что ты от меня хочешь? Я сказал, что деньгами помогу…
– Да при чем тут твои деньги?! Мы не нищие! Никто твои копейки отнимать не собирается. Если хочешь быть самостоятельным, жить обособленно – дело твое, никто к тебе не лезет. Но когда в семье беда, будь добр, найди время поддержать брата, дать понять, что он не один, что у него есть мы!
– Хорошо, – цежу я сквозь зубы.
– Артём сказал, вы с Верой общались после их разрыва. Что она тебе все рассказала одному из первых.
– Да, так получилось…
– Позвони ей, поговори. Объясни, что эта болезнь не приговор, мы поможем. Что Вера Артёму нужна сейчас особенно сильно, когда все отвернулись. Мы сделаем вид, что ее отвратительного поступка никогда не было. Хотя мне так и хочется высказать все, что думаю о нашей Верочке дорогой. Если ты не позвонишь, это сделаю я.
Не то чтобы я собирался признаваться родителям, что кручу с Верой бурный роман и она давно живет у меня, но… Я действительно готовлюсь к тому, чтобы отпустить ее через месяц… Но никак не передать обратно в заразные лапы Кустова. Знаю же, какой брат, он никогда не изменится. Я не пущу ее, только не к нему.
На кухню заходит Артём, выглядит, как побитая собака, смотрит жалобно, а сам будто ростом ниже стал.
– Белов, пожалуйста, сделай, как просит мама.
Кажется, ему на самом деле плохо. Кожа серая, взгляд потухший, он словно и правда умирает, хотя так быстро вирус бы не смог подкосить этого двухметрового лося. Видимо, сам себя доводит, как и Вера моя.
Все наши страхи, блоки, неудачи берут начало в голове. Череп защищает обитель боли и удовольствия от механических повреждений, но проблема-то в том, что покромсать себя можно и без применения физической силы.
– Мы на этой неделе уже дважды завтракали вместе, – продолжает он.
Об этом я не знал, и, видимо заметив, как вытянулось мое лицо, Артём слегка улыбается.
– Она дала понять, что все еще неравнодушна. Но… ей нужен толчок. Арину я пока не хочу впутывать, надеюсь, и не придется. Вера запуталась, растерялась, но она примет меня обратно, я уверен. И мы забудем эти чертовы недели, будто и не было их никогда. Как страшный дурацкий сон. Начнем с чистого листа.
Забудем те единственные несколько недель, когда я действительно хотел жить, как страшный дурацкий сон.
Мама кивает и сводит руки на груди в умоляющем жесте.
Вера не говорила, что виделась с Кустовым. Ни одного слова. Я чувствую себя полным идиотом. Не может быть, чтобы она вернулась к нему после всего, что было. Да ну на фиг, не может этого быть.
С другой стороны, я совершенно не понимаю баб. Обхаживал Настю целый год, влюбился, что только не делал, в лепешку разбивался. Она ясно дала понять: тоже сильно любит, но в трусы пустит только после свадьбы. Жениться в восемнадцать лет… Так хотел ее, что, не поверите, готов был. Пообещал, что как поступлю в летное и дадут общагу, сделаю предложение официально. Все сделаю – так хотел сильно.
С ума свела, красивая гадина, как картиночка. Ни одной бабы после нее не видел, хотя бы отдаленно способной конкурировать. А он пришел из армии и трахнул ее в первую же неделю. Без всяких там штампов и обещаний, просто пришел, увидел, поимел везде. Рассказывал потом еще подробно. Тогда я таким неудачником себя чувствовал, что впору удавиться было. Вообще, не лучшее мое лето, если вспомнить, что после меня сожгли заживо. Несколько раз.
Потираю пиратский флаг на груди сильнее и сильнее. Горит он уже, но держится, выполняет свое предназначение: не выпускает черную гнилую злость наружу, из сердца. Защищает меня от ненависти, и тем самым других – от меня. Я ж болен дрянью, названия которой не существует. Заразили, пока жгли, пока смотрели, как скулю от боли, обдирая ногти до мяса, царапаю землю, бессмысленно пытаясь тушить ей себя, сознаюсь во всех мировых грехах, умоляю пристрелить, только прекратить все это. Передали яд от одной души другой.
А избавиться можно, только если заново круг запустить, передать эту муку другому. Сказали мне тогда, что теперь я имею право карать, а значит, должен это сделать. Иначе гореть мне вечно в собственном аду, быть недочеловеком, вести войну с самим собой, в которой не стать победителем. Сказали, что я должен сделать с кем-то то же, что сделали со мной, иначе от воспоминаний не избавиться и люк в ад не захлопнуть. Ходить мне по краю всю жизнь, падая периодически. Представляете? Сказали мне, что люк этот гребаный заткнуть можно только другим человеком.
Когда ты в пограничном состоянии между жизнью и смертью, подобная чушь почему-то обретает потаенный смысл. Застревает в голове, как пуля в кости, а потом растворяется, впитывается. На рентгене ее не видать, но на самом деле, никуда не девается годами.
Для души вообще существуют лекарства? Грязная она у меня, в пятнах. Вытащить бы из тела да выстирать, отбеливателем посыпать.
Смотрю на Кустова исподлобья.
Тогда, восемь лет назад, я еще не был уродом с огненной бурей в башке, и мне предпочли его. А теперь на что рассчитываю? Неужели ситуация повторится?
Разглядываю Артёма, пытаясь понять, почему этого уверенного в себе козла в женских глазах даже ВИЧ не портит?
– Я поговорю с ней, обещаю, – слышу свой собственный голос.
– Спасибо, брат. – Артём быстро обнимает меня, мои же руки по швам. Мама улыбается и кивает с благодарностью. – Если поможешь, считай, место крестного отца у будущих маленьких Кустовых – твое.
Я еду домой злой как черт, парковка у подъезда битком. Почему все эти люди не на работе? Какой вообще сегодня день недели? Паркуюсь за два двора, иду по улице в домашнем спортивном костюме, сжимая руки в кулаки и не зная, с кем поделиться этой злостью, переживаниями, опасениями.
Что ж делать-то мне сейчас? Как поступить правильно? Даже в гребаное любимое кафе не пойти кофе выпить.
– Виктор Станиславович, вас можно на пару минут? – вдруг переключает на себя внимание незнакомый мужской голос.
Оборачиваюсь – рядом остановился новейший черный BMW Х5, из которого вышел представительно одетый мужчина средних лет в идеально сидящем дорогом костюме. Смотрит на меня, вежливо улыбается.