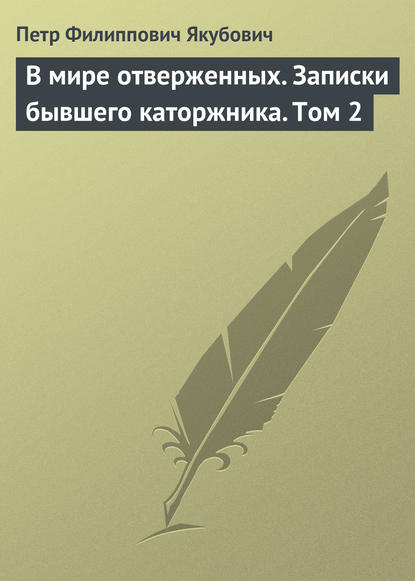По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раз ночью Лучезаров вернулся неожиданно из завода (откуда ждали его лишь к вечеру следующего дня), неслышно подъехал к дому и, послав за надзирателями, отправился прямо в кухню. Там шел, по обыкновению, дым коромыслом. Заслышав знакомые шаги, Юхорев попытался было скрыться в подполье, но поздно: великолепный Лучезаров уже стоял перед ним лицом к лицу с гневно раздувавшимися щеками и ноздрями.
– Отправить немедленно этого артиста в тюрьму! – коротко, но внушительно произнес он, и выросшие точно из-под земли два дюжих надзирателя приготовились исполнить приказание.
– За что же, господин начальник? – взмолился Юхорев.
– За многое, за многое, братец, сам знаешь.
– Работу я свою, кажется, сполняю еще почище других, а что ежели повеселишься вечерком…
– Я тебе дам повеселиться! Ты в моем доме развратный притон завел… Прислугу мою совращаешь… И в тюрьме тоже, я знаю, чьи все штуки были… Но я тебя до сих пор покрывал, я к тебе расположен был… И вот какой ты платишь мне благодарностью! Теперь ты сгниешь в тюрьме! Не гляди, что твой срок почти на днях кончается, – я сумею тебя в новую каторгу послать.
Таким образом, Юхорев не прожил и одного месяца в вольной команде. Попал он на этот раз в мою камеру. Когда поздно ночью загремел замок и распахнулась дверь, я подумал было, что пришли звать Штейнгарта к кому-нибудь из его многочисленных пациентов, и едва поверил глазам, увидав Юхорева с вещами. Многие из арестантов тоже проснулись, зашевелились; начались расспросы и рассказы с обычной бранью против закона, веры, бога и особенно Шестиглазого.
– Ну и, загнет же он мне теперь салазки, попомнит Марьюшку! – говорил Юхорев, укладываясь спать.
Действительно, на другой же день Юхорева вызвали в рудник, причем оказалось, что Лучезаров просил Монахова и Петушкова назначить его на самую тяжелую работу. Но в руднике Шестиглазый не был хозяином, и Юхорева заставили там делать то же самое, что делали и остальные арестанты. При его железных мускулах не стоило большого труда выбурить полный урок, и он подолгу грелся на солнышке, лежа на отвале и болтая с караулившими казаками, с которыми почти со всеми свел близкое знакомство в короткое пребывание на воле.
Возобновились и его дружеские прогулки и беседы в тюремном дворе с Тропиным, Стрельбицким, Быковым и Шматовым. Несмотря на то, что он лишен был теперь всякой официальной силы и власти, прежнее значение его все еще сказывалось в тюрьме. Он производил впечатление развенчанного короля, который спустился в толпу бывших своих подданных, и те все еще продолжают и страшиться его и ощущать былое обаяние. Когда Юхорев хотел того, он и действительно умел быть по-прежнему обаятельным. Живо запомнилась мне одна сцена. Было ненастное, холодное утро. Выгнав арестантов для поверки в коридор, один из самых непопулярных надзирателей, тот самый, которого звали Змеиной Головой, не торопясь производить нам счет, спокойно расхаживал взад и вперед перед строем, весело болтая о чем-то с другим дежурным.
– Долго ль еще стоять здесь будем? – раздался наконец из рядов покорной кобылки смелый возглас Юхорева.
– А столько, сколько захотим, – грубо ответил Змеиная Голова. – Кто там рот разевает?
– Рот разевает человек, хотя и каторжный! – отозвался тем же властным голосом Юхорев. – И позвольте вам заметить, Василий Андреевич, что заставить нас слушаться ваших хотений, ежели они не закон, а простой капрыз, вы не можете.
– Ты разговаривать со мной вздумал?
– Вздумал и еще вздумаю.
– Я тебя в карцер отведу.
– Отведите. Карцем вы мене не испугаете, а что арестанты будут с этих пор знать, кто вы такой, так это верно!
В коридоре водворилась глубокая тишина; все ждали, что Юхорева тотчас же после этого отведут в секретную, Змеиная Голова переменился несколько раз в лице, то бледнея, то краснея, сделал туда и сюда ряд порывистых движений, брякнул ключами и вдруг скомандовал зычным голосом на молитву. Все время этой сцены я невольно любовался Юхоревым, стоявшим неподвижно как статуя, не выражая на лице ни страха, ни гнева, ни довольства своей победой. Прошла поверка, и он с таким же наружным равнодушием вошел в камеру и, не говоря ни с кем слова, кинулся в постель, намереваясь еще немного соснуть. И через минуту он, точно, опять храпел и спал богатырским сном.
Между мной и Юхоревым со времени возвращения его в тюрьму не существовало решительно никаких отношений. Хотя перед уходом его в вольную команду мы расстались в наружно добрых отношениях, но теперь, по какому-то безмолвному соглашению, установилось, что мы точно не замечали присутствия друг друга в камере. Изредка только мне казалось, что он, не любивший раньше цинизма ради одного цинизма, хотя и не стеснявшийся никогда в крепких выражениях, теперь будто намеренно распевал иногда грязные куплеты и песни. Но он же пел иногда и чудные, задушевные мотивы (саратовец родом, он больше чем кто другой в тюрьме был знатоком старинных русских песен), и, слушая эти берущие за сердце звуки, хотелось порой подойти к нему, и, протянув руку, сказать растроганным голосом:
– Юхорев, зачем вы притворяетесь? Ведь вы не такой дурной человек, каким хотите казаться? Помиримся же искренно и навсегда!
И вдруг не успевал еще замереть последний аккорд, задушевной поэтической жалобы на то, что судьба и злые люди загубили жизнь доброго молодца, разлучили его с родиной и с милой сердцу девушкой, как из уст Юхорева вырывался отчаянно кабацкий, бесстыдно разгульный припев, незаконный плод культуры и новейшей народной фантазии… И очарование улетало: я опять видел перед собой жестокого, самолюбивого, развратного человека, для которого нет ни святыни, ни родины, ни foi, ни loi.[11 - Здесь, из французской поговорки ni foi, ni loi взяты в буквальном смысле два слова: foi – вера, loi – закон]
Однажды в воскресенье я стоял с двумя своими товарищами в боковом коридоре тюрьмы, о чем-то вполголоса разговаривая. Беседа наша была непродолжительна, и по окончании ее я с Штейнгартом отправился в больницу, а Башуров взялся за ручку двери, ведшей в главный коридор. Он увидал при этом, как кто-то быстро отскочил от двери и поспешно стал удаляться в сторону; но Валерьян узнал Карасева, того мнительного самогрызуна, который жил в одной камере со мною. Быть может, он и не думал вовсе подслушивать и у двери находился случайно, но ставший, в свою очередь, подозрительным, Башуров окликнул его и укоризненно заметил:
– А ведь это нехорошо, Карасев!
– Что такое нехорошо? – спросил Карасев, вспыхивая кровавым заревом.
– Да уши прикладывать к дверям.
Трудно изобразить, что произошло после этих слов. Возвращаясь с Штейнгартом из больницы в свою камеру, мы застали в коридоре следующую сцену: Башурова и Карасева окружала целая толпа арестантов, и второй из них с пеной у рта, с налитыми кровью глазами и стиснутыми судорожно кулаками так и лез на Валерьяна, оглушенного, растерянного, стоявшего в углу, не зная, что делать и говорить.
– Какую ты имел полную праву так меня обзывать? – кричал Карасев. – Выходит, по-твоему, я – сука? А может, я еще почище тебя? А может, я такое выражу, что ты в лоск передо мной ляжешь? Ты ответь: какую имел полную праву? Что я мимо двери проходил, так, значит, уж не смей и проходить мимо вас? Вы Юхорева винили, что он большую власть над тюрьмой брал… А кто теперь его в тюрьму посадил? Знаем мы хорошо, кто. Вы сами хотите власть забрать!
Этот бессвязно-нелепый поток обвинений встречался глухим одобрительным ропотом теснившейся вокруг толпы. В стороне стоял с вызывающим видом сам Юхорев; перед ним патетически размахивал руками и громко о чем-то шипел Гнус-Шматов. Быков, выдаваясь из толпы своим бледным лицом скелета, рычащим басом тоже рассказывал какую-то историю.
– Он меня хлебом своим попрекнул… Бурили в штольне… Он засадил бур и зовет меня подсобить, исправить. Я б и пошел – чего не подсобить? Да только говорю – так себе, никакого зла на уме не имею: "Ох! свой-то урок у меня не кончен еще…" А он как вдруг выпалит: "Забыли нашу хлеб-соль!" Так вот они, ребята, каковы!
Последние слова быковского рассказа долетели до моего слуха, и я сразу понял, что речь шла не о ком другом; как именно обо мне. Но как же этот самолюбивый и упрямый человек извратил и переиначил то, что было на самом деле! А было вот что. Быков бурил со мной в штольне и, видя, что я сижу, отдыхая и ничего не делая, попросил меня сходить в светличку за новыми свечами. Я с удовольствием исполнил эту просьбу. Когда же несколько минут спустя я, в свою очередь, обратился к нему за услугой и он произнес свою фразу; "У меня свой урок еще не кончен", в ответ я действительно сказал шутливым тоном: "Ага! Старая-то хлеб-соль забывается?" – причем под хлебом-солью, конечно, разумел только свою ходьбу за свечами… Мне и в голову не пришло тогда, что мое замечание сколько-нибудь могло оскорбить Быкова; я не заметил даже, чтобы он надулся… Но теперь оказывалось, что я причинил человеку жестокую обиду, и невинный случай выдвигался в качестве одного из моих преступлений против подозрительной гордости кобылки…
Однако я ограничился теперь замечанием: – Вы не так меня поняли, Быков! – и поспешил пройти к Карасеву. С последним у меня установились перед тем довольно добрые отношения. Разгадав сразу этот мнительный, болезненно амбициозный характер, я подкупил его сдержанностью и уступчивостью в спорах, и он относился ко мне с видимым уважением. Явившись теперь на выручку к товарищу, я стал сочувственно расспрашивать Карасева о случившемся. Он еще раз излил передо мной весь поток своих обвинений и укоров. Я старался его успокоить, объясняя слова Валерьяна простым недоразумением, в котором он не замедлит, конечно, извиниться. Долго еще Карасев продолжал брызгать слюной, повторяться и кричать, но уже, видимо, успокоенный; при появлении надзирателя, привлеченного шумом, кобылка мало-помалу разошлась.
Чувствовалось тем не менее, что история далеко не кончена, что электричества скопилось в воздухе достаточно для того, чтобы вожаки попытались разрядить его. И действительно, к вечеру собралась в кухне огромная сходка. Мы, конечно, не могли на ней присутствовать, но тайные друзья наши, вроде Огурцова и "интеллигентно-галантного" шпиона по профессии Мишки Биркина, передали нам вскоре все ее подробности. Юхорев предлагал заявить Шестиглазому, что тюрьма не желает пользоваться скоромной пищей во время постов; его поддерживали Быков, Шматов, Тропин, Стрельбицкий и другие. Совершенно неожиданно присоединился к ним и Сохатый, которого я будто бы "унизил", сказав кому-то, что его, Сохатого, водит на веревочке всякий, кто захочет. Выступил опять и Карасев, с налитыми кровью глазами выкрикивавший опять все подробности своей стычки с Башуровым. Выплывали на поверхность такие давно забытые, тонкие и почти неуловимые обиды" что в другое время и при другом настроении можно было бы от души расхохотаться, услыхав про них. Но теперь было не до смеха. Теперь эта нелепая история наполняла нас троих чувством горечи и глубокого раздражения. Ах, глупцы, глупцы! Жестокие дети в тридцать и сорок лет, не понимающие, кто ваши истинные друзья и враги, готовые растерзать тех, кто вам искренно желает блага, и принять в объятия тех, кто на самом деле может предать вас и погубить!
Сходка, однако, не привела к тому героическому решению, которого добивался Юхорев с товарищами. Многие даже из главарей охотнее кричали и размахивали руками, чем шли на действительные жертвы собственными интересами; большинство, энергично участвовавшее в негодующем шуме и гаме, вяло поддерживало вожаков, когда те пытались перейти к реальной формулировке своих желаний. Этого мало. Нашелся человек, от которого, казалось, меньше всего можно было ожидать геройства, но который, однако же, откровенно и громко встал один против всех и с неподражаемо искренним комизмом воскликнул:
– Не согласен! Составляйте протокол, пишите: я не согласен!
Это был не кто другой, как Луньков. Слабый, маленький под угрозою поднятых на него кулаков, он не переставал кричать:
– Нет моего согласия! Старики, вас на удочку поддеть хотят! Им-то, глотам этим и храпам, ничего не стоит от табаку и мяса отказаться, они всё найдут, а мы с голоду подыхать будем сдуру… И не вижу я никакой вины ни за Иваном Николаичем, ни за Митреем Петровичем; ни за Валерьяном Михалычем, кроме одной вины, что они много вниманья на нас обращают. Мы куражимся, а они нас упрашивают: "Ешьте, голубчики, пейте!" – Вот за это виню я Ивана Николаича. Я б на их месте…
Лунькову заткнули глотку и вышвырнули за дверь кухни; но арестантский сейм был тем не менее сорван. Произвела ли речь Лунькова такое впечатление на большинство кобылки, просто ли утомилась она от бесплодного крика и гама, только кухня начала быстро пустеть, и значительная часть крикунов разошлась по камерам. Когда Юхорев с Тропиным начали подводить после того итоги и собирать голоса тех, которые соглашались сделать Шестиглазому заявление о пище, они насчитали всего только восемь человек… С этим числом, конечно, невозможно было выступать от лица всей тюрьмы, и шайка порешила только снова варить для себя постную пищу в отдельном котле. Каким-то образом затесался в эту же группу протестантов и наш приятель Карпушка Липатов. Все время следующего дня, свободное от работы, он расхаживал по тюремному двору, ухарски заломив набекрень шапку и как-то особенно геройски выкидывая вперед колени, а когда встречался с кем-либо из нас троих, то бросал на нас убийственные взгляды и сардонические усмешки. Но когда и еще день прошел (первый постный день после сходки), а мы всё не обращали на него ни малейшего внимания, тогда он подошел и заговорил:
– Вот вы какие, господа… Карпушка Липатов с пустым брюхом ходит, а вы и в ус себе не дуете! Не лучше ль же вам опять в хеврю меня свою принять? Дайте фунтик-другой табачку, и я, пожалуй, опять готов буду пишшу вашу есть… Я ведь не злопамятный… А уж как ведь изобидели вы меня, господа, так изобидели, что просто и высказать даже нельзя!
– В чем же обида ваша, Карпушка?
– В господине дохтуре, в Митрее Петровиче, вот в ком! Потому я ханании у них прошу настоящей, а они мне все калидат да калидат в рот суют. Они говорят, не калидат, мол, это. А меня уж довольно фершал Землянский покормил им – Карпушку трудно оммануть, шалишь, брат!
– Ну, вы опять за свое, проходите мимо.
– Нет, вы постойте, господин… Я помириться с вами пришел. Я опять ваше мясо есть стану…
– Ужасно нас обяжете этим!
– Да и обвяжу! Потому мясо – оно очень пользительно для моей болезни. Оно лучше, пожалуй, всякой ханании будет!
И в тот же день Карпушка объявил всем, что прекращает свой протест. Что касается остальных семи человек, то они варили постную пищу, как и предсказывал Луньков, только напоказ; отдельно же от нее ели в большом количестве мясо, пили молоко и, словно торжествуя какую-то победу, доставали бог весть откуда даже водку… Башуров предлагал было уничтожить временно, по доброй воле, всякие улучшения общего котла и посмотреть, что станет делать кобылка, если перестать "нежничать" с нею, показать наше полное равнодушие к ее вздорным капризам; но Штейнгарт энергично восстал против этого плана, и мы решили, что лучше всего покажем свое равнодушие, если ровно ничего не изменим в своем поведении, а оставим все в прежнем виде. Тем не менее, когда наступила суббота и я разнес по камерам, как обыкновенно, махорку, то все мы были крайне удивлены, узнав, что не взяли своих порций уже не одни только тюремные "иваны", а целых сорок человек, то есть чуть не третья часть тюрьмы… Чем объяснялось это странное явление? Возросло ли так быстро число недовольных нами? Просто ли пользование табаком резче бросалось в глаза, отказ же от улучшенной пищи обставлен был значительными трудностями? Среди отказавшихся от махорки, кроме прежней кучки недовольных коноводов, пестрели и имена до тех пор дружелюбно относившихся к нам арестантов, вроде Сокольцева, Железного Кота, Звонаренки, Мишки Биркина, татарина Равилова и многих других. Глухое брожение в тюрьме не прекращалось, но с каждым днем, по-видимому, все росло и усложнялось. Надзирателям по нескольку раз в день приходилось разгонять собравшиеся там и сям группы арестантов. Смутные, доходившие до нас слухи об этих совещаниях говорили, с другой стороны, что, в общем, замечается сильное движение в нашу пользу. Одни из главарей, видимо, уже утомились волнениями, другие переругались друг с другом. Где-то за кулисами шли невообразимые интриги, сплетни и свары: сегодня бранили и обвиняли во всем Юхорева, завтра, напротив, утверждали, что Юхорев давно наплевал на все, а что мутит один только Тропин, который хочет верховодить тюрьмою. Полоумный Жебреек, стоя в величественной позе посреди камеры и явно намекая на Штейнгарта, прорицал, что все зло на свете от "дохторишек" и что если бы всех их спалить в один прием, то бедным людям много бы легче дышать стало на свете… Карасев кричал в это же время, что он сам сумеет наговорить глупостей Сохатому, который чем-то его обидел… Словом, ничего нельзя было разобрать из того, что происходило кругом и чего наконец хотели эти люди!
Между тем прошло еще два постных дня, и тюрьма, как ни в чем не бывало, продолжала есть вкусную скоромную баланду; мы же и не думали идти с повинной к постившейся кучке протестантов, у которых к тому же стали иссякать собственные средства. И вот начались искательные подходы к нам со стороны тех самых лиц, которые были инициаторами волнений. Тропин из первых стал весело скалить зубы и дружелюбно заговаривать то со мной, то со Штейнгартом; Карасев и Быков сделались вдруг удивительно ласковыми и уступчивыми; Сохатый несколько раз пытался вступить со мной в дружескую беседу:
– Я что ж? Я ничего… другие все были недовольны…
– А зачем же вы, Петин, замучили на днях Штейнгарта бурами? Без нужды то и дело посылали в кузницу, из одной злости.
Петин краснел и отпирался.
Что касается Юхорева, то он действительно имел в последнее время вид человека утомленного и ничем в тюремной жизни не интересующегося.