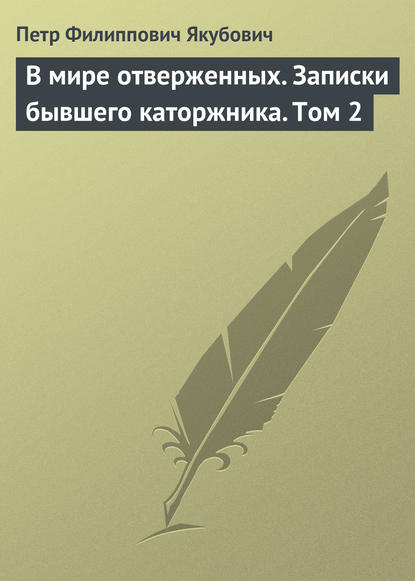По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вся эта бестолочь длилась бы, вероятно, еще очень долго, не приводя ни к каким положительным результатам, если бы в дело не вмешалась наконец властная рука Шестиглазого. До него донеслись каким-то путем сведения о беспокойном настроении тюрьмы, и он не замедлил призвать к себе нового артельного старосту, скрытного хохла, большого политикана, того самого, который некогда, при чтении "Бориса Годунова" Пушкина, получил от кобылки прозвище Годунова, Последний пробовал было отговориться незнанием. Тогда бравый капитан на него прикрикнул:
– Не сметь увертываться! Я слышал, что о пище какие-то толки идут?
Годунов струсил.
– Да, это точно, господин начальник… По средам и пятницам готовится из жертвуемого мяса лапша… Так вот она многим нескусной кажется…
– Лапша невкусна? Да вы очумели, что ли? Нет, ты что-то путаешь, братец, скрываешь.
И вдруг голову Лучезарова осенила догадка: – Ага, понимаю! Вероятно, тут религиозные чувства затрагиваются… Да, да, это очень возможно! Как это мне раньше на ум не приходило! В таком случае придется совсем запретить улучшения по постным дням.
Годунов не принадлежал лично к числу протестантов и потому стал горячо опровергать догадку начальника. Последний долго качал раздумчиво головой.
– Так вот что, братец, – наконец решил он, – отправляйся сейчас же в тюрьму, и к вечерней поверке чтоб был мне ответ: если найдется хоть пять человек, желающих поститься, я немедленно прекращу всякие улучшения.
С этим сенсационным известием Годунов, чрезвычайно взволнованный, прибежал в тюрьму и тотчас же созвал в кухне сходку.
– Вот до чего довели ваши капрызы! – заголосила кобылка, накидываясь на иванов.
– Чьи капрызы? Все ведь говорили, не мы одни…
Начались, как всегда, бесплодные перекосердия, в которых Тропин сваливал вину на Карасева, Карасев на Юхорева и т. д. до бесконечности. Решили наконец пригласить на сходку меня, как "старосту" нашей маленькой группы. Я отправился, заранее решив держаться вежливо, но холодно, ни в чем не уступая, но и не заводя никаких лишних пререканий. Кухню я нашел битком набитой народом. Меня встретило гробовое молчание.
– Что вам нужно от меня, господа? – спросил я.
– Вы чего ж замолчали? Говорите! – раздался чей-то насмешливый голос. – Пока одни были, так откуда чего бралось, а тут и язык прикусили…
Голос, очевидно, был в мою пользу.
– Вот что, Иван Николаевич, – выступил из толпы староста Годунов. Глаза его были дипломатично опущены вниз, правая рука с видом достоинства заложена за пазуху рубахи. Каждое слово он точно процеживал и тщательно взвешивал, прежде чем произнести.
– Видите ли – мы, кобылка, живем по нашим глупым правилам и привычкам. Вы нас не обессудьте. Между прочим, многие обижались вашими поступками и обращением… Так вот нам хотелось бы разобрать в окончательной форме, кто из нас, значит, прав и кто виноват.
– Ну что же, давайте разбирать, – сказал я спокойно, – высказывайте ваши претензии.
Из толпы ближе всех протискался ко мне рыженький Жебреек. Он важно расставил свои крошечные ножки и, скосив рот убийственно презрительной усмешкой, хрипло заговорил:
– Претензии? А ежели у меня в животе болесть? Говорю вам, серьезная болесть у меня в кишках есть, а. он, дохторишка ваш паршивый…
– Нельзя ли без ругани?
– Он говорит, будто никакой болести во мне не слышит. Прикладает ухо и говорит, не слышит. Да кому же ближее слышать и знать? Ежели я сам чувствую, что у меня в животе настоящая серьезная болесть есть?
– Ну ты, Жебрей цепучий! Ты дело говори, а не то проваливай, – закричал кто-то на полоумного старика, давно всем в тюрьме надоевшего рассказами о своей "сурьезной болести".
– А ты мне что за указ, долгий твой нос?
– Сам пес!
– Змей!
– Лягуша!
Все захохотали над метко придуманным бранным словом. Жебрейка оттеснили, и, так как он упирался, кричал и бранился, то десятки дюжих рук быстро выволокли его за дверь кухни.
Вперед выступил тогда молдаван Стрижевский, старик с красивой седой бородой и чрезвычайно благообразным лицом. Тихий и застенчивый, этот человек всегда стоял как-то в стороне, и разговориться с ним было почти невозможно. Выступив теперь с "претензией", он в очень деликатной форме высказал недовольство тем, что Штейнгарт порекомендовал будто бы фельдшеру выписать его, еще не вполне оправившегося, из больницы. Не совсем свободно выражаясь по-русски, говорил он тем не менее почти литературным языком.
– Уверены ли вы, Стрижевский, – в свою очередь, мягко спросил я, – кто вам сказал это?
– Мне никто не сказал, но я сам слышал, как Дмитрий Петрович сказали фельдшеру за дверью: довольно?!
– Дмитрий Петрович говорит, что речь шла, по всей вероятности, о каких-либо лекарствах, а никак не о вас. Поверьте, что Землянский выписал вас сам, без всяких советов со стороны. Как можете вы подозревать Штейнгарта, который столько сил и собственного здоровья отдает больным арестантам, недосыпает ночей и бросает обед, чтобы бежать по первому зову к больному?
– И впрямь не дело, старик, – раздались сочувственные голоса, – не такой человек Дмитрий Петрович, это ты напрасно!
Стрижевский смутился, покраснел.
– Я не утверждаю за верное, – заговорил он дрожащим голосом, – конечно, это только мои подозрения… Но арестанты оскорбляются… Они тоже люди, хоть и убитые богом… Ви не хотите нас понять… не хотите признать, что мы имеем, как и ви, душу и сердце…
– Бог с вами, Стрижевский, откуда вы это взяли?
– Дмитрий Петрович сказали мне один раз: "Как ты себя чувствуешь, старик". А я ни разу его не оскорблял и всегда говорил ему ви.
Такой тонкости чувств, признаюсь, я никак не ожидал встретить в одном из представителей каторжной кобылки… Замкнутый, всегда страшно молчаливый и сдержанный, этот удивительный старик с аристократически тонкими чертами лица, с нервным складом всей фигуры, правда, всегда казался мне загадкой и исключением. Я поспешил утешить его уверением, что если Штейнгарт и действительно обратился к нему на ты, то, конечно, не из желания обидеть, а, напротив, из самого теплого чувства к нему, как к больному старику.
– Ну, вестимо, чего здря говорить! – послышались опять миролюбиво настроенные голоса, среди которых был и голос Быкова. Надо было ковать железо, пока горячо, и я быстро перешел к выводам.
– Не будем же, братцы, перебирать понапрасну старую труху и перейдем к делу. Время от времени поднимаются между нами ссоры, и всегда оказывается в конце, что по пустякам. Надо с этим покончить. Или верьте нам, что мы вам друзья и товарищи по несчастью, и тогда будем жить мирно, или же раз навсегда разойдемся и не будем иметь уж ничего общего. Вот мы давали вам махорку, улучшали общий котел, делая все это из самых дружеских чувств. Живем в общей тюрьме, терпим общую беду; у нас есть средства, которых у вас нет, – ну, мы и хотели вам помогать, повторяю, как товарищам по несчастью. Но многие из вас недовольны этим… Это ваше, конечно, дело. Теперь Шестиглазый сюда уже впутался: стоит вам одно слово сказать – и никогда никаких махорок, никакого мяса в постные дни вы ни от кого уж получать не будете! И мы и вы одинаково станем голодать. Больше мне нечего говорить. Решайте, как сами знаете.
И с этими словами я оставил кухню. Я слышал, как за дверью поднялся тотчас же невообразимый шум и гвалт. Разом заговорило несколько десятков голосов.
Сходка привела к совершенно неожиданным результатам. Прежние смутьяны-главари почти все без исключения стояли теперь за то, что следует помириться, что не надо вредить будущим поколениям шелайских арестантов, добровольно отказавшись от помощи "добрых людей"; но безголосое обыкновенно большинство, само ничего против нас не имевшее, вдруг заартачилось… Даже такие неизменные друзья и благожелатели мои, как Чирок, Луньков и Ногайцев, кричали:
– Нельзя теперь мириться, никак нельзя!..
Я был в полном недоумении. Но перед самой уже поверкой в нашу камеру вошел Стрельбицкий (незадолго перед тем переведенный, по собственной просьбе, в камеру Башурова) и с чрезвычайным негодованием стал говорить при мне и Штейнгарте о каких-то иванах, ловящих рыбу в мутной воде и подстрекающих "простецкую" кобылку ко всякого рода волнениям (к этой же простецкой кобылке Стрельбицкий причислял, очевидно, и самого себя!).
– Отца с матерью не послухаюсь больше, если скажут: "Выражай, Стрельбицкий, недовольство, подавай голос за Иванов!" И на все законы их плюю с этого дня!
Прислушиваясь к этим речам, я все еще не понимал, в чем дело. Железный Кот горячо подхватил его слова:
– А я так и давно уж наплевал. Потому мы же и в дураках всегда остаемся… Ну, какими глазами я теперь на Ивана Миколаевича стал бы глядеть, коли после всего, что было, после всего нашего кураженья пришел к нему бы и сказал: "Давай мне опять свой табак. Буду и пишшу твою опять есть!" Нет, уж лучше, по-моему, помереть с голода, чем гореть со стыда!
– Вестимо, лучше! – мрачно подтвердил Стрельбицкий.
– А я и табак до сих пор брал и пищу ел, а теперь ото всего откажусь, ото всего! – забасил вдруг поэт Владимиров, срываясь с нар в необычайном волнении.
– Да все, все теперь откажемся! – поправил его Луньков. – Потому они, может быть, изверги; стыда не имеющие, а мы – человеки.