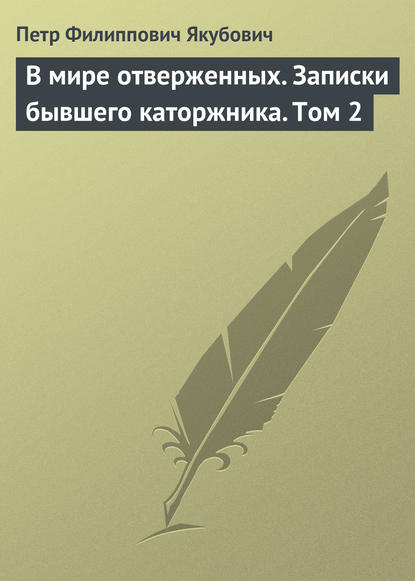По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бравый капитан глядел на все с страшно растерянным видом и то и дело подходил к Штейнгарту с вопросами:
– Но как же вы полагаете? Что же это наконец такое?.. На кого думать?
Штейнгарт только пожимал плечами.
– Мое дело констатировать факт, а теперь – ухаживать за больными. Во всем прочем вы хозяин. Одно я позволю себе порекомендовать вам: собрать рвоту больных, в сосуд и запечатать.
– Совершенно верно! Обязательно! Биркин, Биркин! И знаете, что: я пошлю сейчас же отобрать и тот котелок, в котором был чай, быть может, его осталось хоть немного…
Но мысль эта явилась бравому капитану уже слишком поздно: котелок оказался чисто вымытым и вытертым кем-то насухо. Как ни скрывал Штейнгарт от арестантов характер и название болезни, через полчаса все уже было известно в больнице. Сам Лучезаров, как только отравленные обнаружили признаки выздоровления, снисходительно присаживаясь к ним на койки, говорил:.
– Непременно разыщите мне этих мерзавцев отравителей! На первой же осине повешу их… Только поправляйтесь, поправляйтесь, друзья!
Китаев, Карпушка и сам мрачный Стрельбицкий были поражены и приведены в умиление ласковым обращением с ними грозного начальника; растроганные, они целовали ему руки и клялись, что, если встанут на ноги, сделаются образцовыми арестантами. Китаев все продолжал охать и жаловаться, хотя, особенных страданий уже, казалось, не испытывал; вся ненависть Стрельбицкого обратилась теперь на Юхорева, и он говорил, что выпустит ему кишки, "людскому сомустителю". К Штейнгарту он относился теперь с неподдельной симпатией, широкой, мягкой улыбкой встречая каждое его появление и величая спасителем. Один только Карпушка Липатов, казалось, даже радовался случившемуся.
– Я чувствую, господин дохтурь, что эта самая яда мне на пользу пошла, – объяснил он Штейнгарту, – потому она кровь по костям разогнала. Вот ежели б вы еще мне той ханании дали, которую почесть в рот лили, так я знаю, что настоящим бы тогда человеком стал! Теперь оно бы самая точка – мою болесть лечить. Но вы, господин дохтурь, скупой… вы по губам только меня помазали, а чтоб, значит, окончательно Карпушке спину выправить, так этого вы не хотите… А уж я вам говорю, что теперь самая что есть точка подошла для моего лечения, потому яда эта… она кровь по костям у меня разогнала.
Словом, поутру вся тюрьма говорила про "яду", и за спиной Юхорева все единогласно называли его имя, называли с самой искренней ненавистью к нему, открыто утверждая, что Азиадинов с Юхоревым хотели отравить Башурова, меня и Штейнгарта, но что судьба решила иначе, и на удочку попался несчастный Карпушка да двое из юхоревской же шайки… Даже надзиратели указывали на Юхорева. Однако Шестиглазый, для которого "справедливость была выше всего на свете", решился пока арестовать одного Азиадинова, как непосредственно давшего Валерьяну Башурову молоко, от которого произошло отравление. Повар-татарин посажен был немедленно в темный карцер, лишен горячей пищи и закован в. ручные кандалы. Сам начальник посещал его во время каждой вечерней поверки и грозно убеждал сознаться и выдать единомышленников. Но Азиадинов упорно стоял на своем:
– Без вины страдаю, господин начальник! Знать ничего не; знаю, ведать не ведаю.
Обходя во время поверок камеры, Шестиглазый бросал каждый раз на Юхорева пытливо-пронизывающие взгляды, но тот, вытянув руки по швам, стоял, как всегда, непроницаемо-холодный на вид, не вздрагивая ни одним мускулом. Впрочем, несмотря на эту ледяную маску, пристальное наблюдение могло все-таки открыть, что и он временами волновался и чувствовал некоторый страх. Раз утром по тюрьме прошел слух, что Азиадинов решил дать какие-то чистосердечные показания; и вечером того же дня, перед самой поверкой, кобылка всколыхнулась, как один человек, от новой сенсационной вести: Юхорева поймали на месте преступления…
– Кто поймал? В чем?
– Огурцов… Юхорев на подоконник карцера вскочил и, оглянувшись кругом, зачал уговаривать Азиадинова по-прежнему во всем запираться, обещая заплатить ему двадцать рублей…
Выйдя на двор, я действительно увидел у ворот Огурцова, в сильной ажитации разговаривавшего о чем-то с надзирателями; он просил их немедленно доложить начальнику о необходимости сообщить ему неотложное дело. Завидев меня, Огурцов радостно закричал:
– Поймал, Иван Николаевич, поймал-таки суку!.. Я говорил ведь вам, что не я буду Огурцов, коли рано или поздно не отплачу. Вот и дождался точки! Я день и ночь следил за имя, сволочами!
Белое, жирное, в обычное время апатичное лицо Огурцова разгорелось радостным оживлением; большие черные глаза мстительно сверкали, кулаки судорожно сжимались… И я невольно подумал: а ведь давно ль еще это был наивный, простенький юноша, которого не иначе все называли, как "дурочкой"? И вот что сделала из него жизнь, эта ненормальная, проклятая тюремная жизнь!
Не успел я, однако, ответить что-нибудь Огурцову, как ударил звонок на поверку и арестанты начали строиться посредине двора в шеренги. Шестиглазый на этот раз недолго заставил себя ждать, и под воротами появилась его видная фигура.
Прежде всего он вызвал в караульный дом Огурцова и долго с ним о чем-то беседовал. Затем началась поверка в обычном церемониальном порядке. Ожидали, что будет что-нибудь сказано или объявлено после прочтения наряда, но бравый капитан продолжал хранить все то же грозное молчание, и послышалось только короткое:
– Разводить арестантов по камерам!
Все разошлись в некотором недоумении, не то чем-то недовольные, не то с затаенной тревогой. В камерах снова выстроились двумя рядами, но не было слышно ни обычных шуток, ни перебранок. Я невольно покосился в сторону Юхорева. Присев в ожидании поверки па краешек нар, он нервно барабанил по ним пальцами, и лицо его показалось мне темнее обыкновенного и как будто несколько осунувшимся… Никто из товарищей не глядел на него, и он также ни с кем не заговаривал. Молчание было так тягостно, что все словно обрадовались, когда раздалась оглушительная команда: "Смирна!" – и Лучезаров не вошел, а вбежал быстрыми, беспокойными шагами. Не глядя никому в лицо, он совершил обычную церемонию, обошел камеру, заглянул за перегородку, понюхал там воздух. Оттуда он вышел тихим, замедленным шагом… И лишь подойдя к двери, вдруг обернулся и произнес зычным, повелительным голосом:
– Юхорев, я тебя арестую и отдаю под суд. Надзиратели, отведите его за ворота в солдатский карцер.
Ни слова не ответил Юхорев, точно давно уже ждал этого распоряжения: молча повернулся к нарам, взял с них шапку и ровными, мужественными шагами направился к выходу. Но на пороге вдруг обернулся и сказал несколько дрогнувшей нотой:
– Прощайте, братцы, лихом не поминайте… Только напрасно обвиняют меня в этом деле!
Дверь захлопнулась, ключ в замке щелкнул. И тотчас же в камере все зашумели и разом заговорили…
– Убрали наконец сволочь! – объявил Сохатый, до истории с отравлением сильно склонявшийся на сторону Юхорева, но после того решительно от него отвернувшийся.
– Да и еще б кой-кого убрать не мешало! Довольно их таких осталось еще, – сказал Луньков, бросив на Тропина полный недоброжелательства взгляд.
– Уж очень геройствовать привык этот Юхорев, – выпустил яд Карасев. – Мы как явились сюда, так не знали, что и подумать: не то арестант такой же, как все, не то секлетарь аль сам сенатор!.. Вот и доносились с своим сенатором, как курица с яйцом, вот и дождались. Бога молите, что всех нас не обкормил, челдонов желторылых.
– Да чего ты нам в нос его тычешь – "ваш" да "ваш" Юхорев? – вступился за честь старой партии Чирок. – Ну, а чем он наш? Нешто скажешь, ваша партия не больше дружила с ним?
– А кто, я, скажешь, дружил? – налился кровью обидчивый Карасев. – Я? Нет, врешь! Я еще никому в жизни своей не кланялся! Это, может, ты не самостоятельный человек, а я… я самому черту-дьяволу, не то что какому-нибудь Юхореву, не уважу. Я, брат, чох-мох не разбираю!..
– Да мало ль их, друзьев-то, и окромя тебя было! Тропин вон…
– А ты Тропина не замай! – быстро отозвался с нар Тропин, тотчас же после поверки улегшийся спать, и покрывшийся было с головой халатом. – Я никого, брат, не задеваю; а кто меня заденет, тому я сумею и скулы своротить.
Чирок почему-то не заблагорассудил с ним ссориться и замолчал.
– А ведь вот, ребята, что значит с честными людьми хоть малость самую пожить, – добавил тогда его противник, – поверите ль, бабы даже перестали мне по ночам сниться!
И Тропин, весело захохотав, повернулся на другой бок и скоро демонстративно захрапел.
В первые дни после ареста Юхорева подавляющее большинство тюрьмы было настроено против него явно враждебно; даже те, которые, подобно Быкову или Пальчикову, вначале пытались хоть робко защищать его от обвинения в отравлении, теперь, когда он был изъят из тюрьмы и представлял собою бесповоротно павшее величие, смолкли и не протестовали больше против самых ужасных и решительных обвинений. В приливе откровенности и доверчивости Сохатый рассказывал Штейнгарту, будто Юхорев совал ему раз в руку какой-то порошок в бумажке и говорил: "Сыпни, мол, невзначай в котелок Штенгора с чаем али в бак с баландой". Но он, Сохатый, разумеется, благородно отклонил это предложение… Нахалы, вроде Тропина, ограничились в это время тем, что, не высказываясь громко ни за, ни против, довольно двусмысленно иронизировали над общим настроением… Вожаки куда-то исчезли, будто сквозь землю провалились, и полновластно царила обыкновенно безликая и безголосая шпанка с ее банальными мнениями и не менее банальными чувствами.
Передо мной с товарищами, особенно же перед Штейнгартом, все почтительно расступались, встречая нас самыми приветливыми улыбками, заискивающе заговаривая… Вообще это была самая грубая, самая бесстыдная, откровенная измена, какую только мне доводилось видеть в жизни!
Но такое настроение толпы не продолжалось и двух недель. Затем снова начал обнаруживаться поворот в пользу Юхорева. Стали проникать в тюрьму слухи, будто с Юхоревым, закованным в ручные и ножные кандалы и валяющимся на земляном полу темного солдатского карцера (за воротами тюрьмы), обращаются крайне свирепо и бесчеловечно, морят его голодом и жаждой. Парашник, раз в день входивший под строгим присмотром в его каморку, видел его изможденного цингой и лихорадкой…
– Скажи, братец, в тюрьме, что я уж не выйду отсюда живым, сгноят меня здесь! – успел шепнуть ему Юхорев.
И дрогнуло жалостное сердце кобылки… Припомнили, как Юхорев, уходя в секретную, сказал: – Напрасно винят меня в эстом деле.
– А что, ребята, и в сам-деле, какие ж такие доказательства, что беспременно он сделал это? Может, один Азиадинов? Огурцов мог ведь и по злобе убийство на него открыть… Он давно, толстая его морда, грозился на Юхорева… – послышались голоса, сначала робкие, а затем все более и более настойчивые.
Но больше всего изумила меня перемена, происшедшая в выздоравливающем Стрельбицком. Недавно еще он называл Штейнгарта своим спасителем, а Юхореву обещался кишки выпустить, теперь же глядел опять, без всякой видимой причины, на всех нас троих дикими, враждебными глазами и, гуляя по тюремному двору в желтом больничном халате, якшался по-прежнему с Тропиным, Быковым, Шматовым и другими членами распутанной было шайки. Этот человек с мрачным обликом и непримиримо вольнолюбивыми речами на деле обладал, очевидно, дряблой и неустойчивой волей, расшатанной, быть может, беспутной жизнью, полной всякого рода кошмаров.
Вскоре объяснилось, что значила эта новая перемена декораций: Тропин пустил по тюрьме новое "бумо", будто отрава брошена была в котелок не кем другим, как самим Валерьяном Башуровым, а добыта, разумеется, Штейнгартом, который был вхож в аптеку. Все сделано для гибели Юхорева и для вящего прославления, в качестве спасителя отравленных, того же Штейнгарта… Как ни возмутительна была эта гнусная выдумка, опровергать ее было невозможно, так как распространялась она под сурдинку, а встречаясь с нами, Тропин только скалил нахально острые зубы и глядел прямо в лицо бесстыдными, светлыми, как вода, глазами.
X. На прощанье
Прошло два месяца. История с отравлениями затянулась надолго. Приезжал следователь, допрашивал Азиадинова, Юхорева, Огурцова поодиночке и лицом к лицу, вызывал и еще некоторых арестантов, в том числе и Башурова, но ни к какому определенному заключению не пришел. Данных для формального обвинения оказывалось слишком мало. Передавали, что уже и сам Лучезаров в беседах со следователем смеялся над арестантскими толками о яде как над ребяческой выдумкой: откуда взяться в тюрьме, и в такой строгой тюрьме, яду?. Конечно, Штейнгарт – прекрасный юноша, проникнутый самыми благими намерениями и чувствами, с пользою заменяющий врача, который приезжает в Шелайский рудник так редко, но… все же нельзя забывать, что он не больше как студент, не кончивший курса и не имеющий большого опыта в прошлом… Никто не мог, разумеется, сообщить следователю того, что знали, например, мы с Штейнгартом или Мишка Биркин с товарищами, и нет ничего удивительного, что он отнесся к делу поверхностно, спустя рукава. Что касается врачебной экспертизы над опечатанной рвотой, то результаты ее остались нам неизвестными.
Много позже мне передавали за верное, что яд действительно находился в руках арестантов, в количестве целых двух банок. Одна из них, по слухам, была вынесена за ворота и исчезла неизвестно куда, а другая очень долго скрывалась от бдительных глаз начальства и гуляла по тюрьме, переходя из рук в руки. Наконец дошло до того, что арестанты стали проигрывать ее один другому в карты. Только год спустя, когда меня не было уже в Шелайском руднике, Штейнгарту удалось проследить это опасное оружие, выкупить и швырнуть в печку…
По окончании следствия и Юхорев и Азиадинов были выпущены из карцеров и опять водворены в тюрьму. Обстоятельство это вначале страшно смутило тех из арестантов, которые открыто заявили себя их врагами. В разговорах между собой они выражали серьезное опасение, как бы Юхорев не отравил их теперь всех гуртом… Огурцов на одной из поверок высказал эту мысль самому Шестиглазому.
– Да, да, не совсем это удобно, не совсем, я понимаю, – озабоченно согласился с ним Лучезаров, – но ничего пока не поделать. Я не могу собственной властью убрать его. Буду хлопотать, а пока потерпите и остерегайтесь.
Что касается самого Юхорева, то он держался теперь хотя и с прежним гордым достоинством, но: уже совершенно в стороне от общих тюремных дел, не только в них не вмешиваясь, но даже и не прислушиваясь ни к каким арестантским разговорам на артельные темы. По целым дням не было слышно в тюрьме его голоса; он работал, спал без просыпу и редко прогуливался даже со старыми своими приятелями. Видимо, он сильно грустил… В могучей натуре этого человека так и бурлила еще жизнь и кипучая жажда свободы; до выхода на поселение ему оставалось не больше четырех месяцев, но он был почему-то твердо уверен, что Лучезаров выхлопочет ему еще несколько лет каторги… Иногда, лежа на нарах после вечерней поверки, он долго мурлыкал про себя какой-нибудь чудный мотив из своего богатого репертуара народных песен, но потом внезапно останавливался, вскакивал и ударял в отчаянии кулаком по нарам, загибая энергичное словцо:
– Эх, пропала, черт возьми, жисть, ни за что ни про что пропала!..