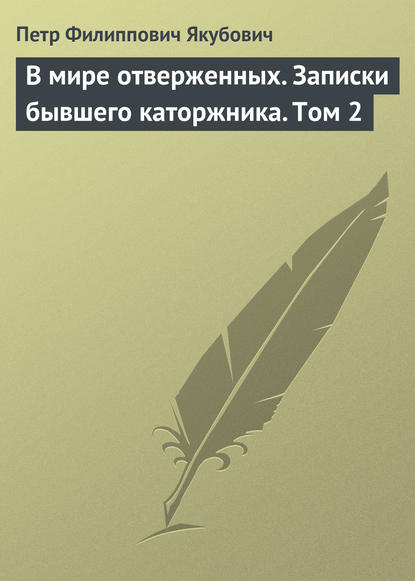По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Единственным благотворным последствием истории с отравлениями было то, что фельдшера Землянского Лучезаров наконец удалил и его место занял молоденький, только что кончивший фельдшерское училище, безусый юноша, робкий, как застенчивая девушка, мягкий и добродушный. По первому же заявленному мною желанию он записал меня в больницу и поместил в маленькой отдельной комнатке, в той самой, где умер некогда Маразгали и куда по окончании горных работ ежедневно приходили ко мне Башуров и Штейнгарт поболтать и отдохнуть от тюремной сутолоки. В праздничные дни, усевшись тесной кучкой на моей убогой койке, мы не разлучались от утренней поверки вплоть до вечерней, и о чем только ни беседовали, о чем ни спорили!
Летние истории страшно повлияли на Валерьяна. Он круто изменил свой первоначальный взгляд на арестантов как на случайный отколок народного мира, ничем, в сущности, от этого мира не отличающийся. Теперь, напротив, он называл обитателей каторги "отбросами" народа и в большинстве их видел отпетых людей, сознательных, ничем не исправимых преступников. И с той же горячей искренностью, с тем же юношеским апломбом, как некогда старые свои взгляды, защищал теперь новые, как будто они составляли заветное его убеждение, добытое долгими годами тяжкого опыта и тяжких страданий, а не несколькими всего месяцами мелких сравнительно разочарований и огорчений. И если раньше я старался охладить оптимистический пыл товарища и показать ему оборотную сторону "отколков народного мира", то теперь испытывал естественное стремление защитить и оборонить своих несчастных сожителей от преувеличенных нападок, от окончательного втаптывания их огулом в грязь. Что касается Штейнгарта, он, видимо, мало интересовался нашими спорами и держался мрачного нейтралитета; было заметно, что опять какое-то глубокое личное горе терзало его и делало угрюмым и необщительным. Вечная беготня по больным, вне стен тюрьмы и внутри их, работа в аптеке и утром и вечером, а иногда даже ночью, оставляли ему слишком мало свободного времени для прежних откровенных бесед со мною, и порой мне чудилось даже, что он начинает намеренно избегать их, что между нами опять происходит в последнее время отдаление. Меня это очень огорчало, хотя напрашиваться на дружеские излияния я не хотел, тем более что не допускал перемены в его личных отношениях ко мне и причиной отчуждения считал какие-нибудь новые осложнения в его грустном романе… Штейнгарт очень часто забегал в мою келью, но каждый раз ненадолго, и рассеянно слушал наши беседы с Валерьяном.
– Ну все-таки не станете ж вы хоть того отрицать, – кричал неугомонный Башуров, – что люди вроде Тропина с товарищами безнадежно вредные члены общества, что таких-то уж ничто не исправит, никакие школы и книжки? Неужели все недавние истории не убедили вас в этом?
– Башуров, да вы ведь без году неделю живете среди этих людей и не успели хорошенько узнать их!
Тогда Валерьян вспыхивал как порох, в нем заговаривало самолюбие.
– Во-первых, не забывайте, что я шел с ними дорогою – значит, не совсем уж не знал еще и раньше прибытия в Шелайский рудник, а во-вторых – и это самое главное, – как жили вы здесь до нас эти два с половиной года, которыми так кичитесь?
– Кичусь?!
– Да, есть небольшой грех… Жили вы, по вашим же собственным рассказам, мирно, спокойно, как у Христа, за пазухой… Нет, постойте, не сердитесь! Знаю, что вы хотите возразить, но у нас не о том сейчас речь, Бурная жизнь внутри самой тюрьмы началась только при нас, и в этом отношении ваш опыт буквально тот же, что и мой.
Часто после подобных "милых" разговоров мы расставались с чувствами уязвленного самолюбия и раздражения друг против друга, хотя на другой же день встречались опять как ни в чем не бывало. Башуров являлся ко мне, широко улыбаясь и дружески протягивая руку. И не проходило десяти минут, как мы опять сцеплялись по какому-нибудь поводу.
– Два слова о недавних историях, Валерьян Михайлович, – заговорил я однажды, – знаете ли, какого я теперь мнения о них?
– Ну, очень любопытно узнать.
– Я думаю, что в этих грустных историях можно найти и свою светлую сторону. Эти убитые богом люди, преступные и невежественные, все же ведь разумные существа, которым не может быть вовсе чуждо сознание человеческого достоинства. В обычное время, в будни, так сказать, жизни, чувство это, правда, тлеет в их душе, как искра под золой, ни для кого не заметное.
И тогда мы зовем их дешевками, возмущаемся их низостью, раболепием, продажностью… Но вот раз в жизни, в праздник жизни, случилось этим несчастным стать на равную ногу с людьми иного, высшего сорта и почувствовать, что сами они тоже люди, а не скоты. И когда эти "высшие" наделали по отношению к ним ряд бестактностей, потухшая было искра вдруг разгорелась, чувство человеческого достоинства проснулось… Но тут мы опять негодуем – на этот раз уж на то, что привычные холопы посмели обнаружить щекотливость испанских грандов! И формы этого взрыва, и ближайшие к нему поводы, и все в нем кажется нам вздорным, нелепым, диким… Точно будто порыв ветра, раздувающий из искры пожар, бывает более разумен!
– Иван Николаевич, извините, но это прямо какая-то декадентская теория… Вы отыскиваете смысл, глубину и чуть ли даже не красоту там, где решительно ничего, кроме бессмыслицы и безобразия, нет.
– А вы, Дмитрий Петрович, какого теперь мления о кобылке? – обратился я к Штейнгарту, молча лежавшему на моей койке и нервно кусавшему себе бороду.
– Ах, все надоело! – отвечал он, нахмурившись еще больше. – Люди везде те же люди, как на низах, так и на верхах развития и образованности.
И с этим загадочным восклицанием он вскочил и убежал по своим делам.
В последних числах октября того же года на одной из вечерних поверок, в субботу, был прочитан, как снег на голову свалившийся с неба, приказ о переводе за дурное поведение в другие рудники Юхорева, Шматова, Азиадинова и Тропина, а Стрельбицкого, по болезни, в зерентуйский лазарет (после истории с отравлением с ним стали делаться какие-то странные нервные припадки, с болью в животе и с судорогами во всем теле; многие подозревали тут простую симуляцию). Значительная часть арестантов выслушала этот приказ с глубокой тайной завистью и изумлением: всем им как бы еще лишний раз подчеркивалось самим начальством, что для того, чтобы вырваться из когтей душного шелайского режима, надо только мутить побольше и устраивать всякого рода скандалы, ни перед чем не останавливаясь и ничего не боясь. Однако лица Юхорева, Шматова и Тропина не сияли торжеством, а, напротив, были очень серьезны: их, очевидно, тревожило тайное опасение, что прочитана пока только часть написанного в бумаге и по прибытии на новое место их накажут немедленно розгами или даже плетьми, а потом объявят увеличение срока каторги.
Увоз пятерых друзей состоялся, на другой день утром, когда по случаю воскресного дня вся тюрьма была дома. Я прогуливался по больничному коридору, когда дверь вдруг растворилась и в больницу вошел, усиленно гремя цепями, в которые его только что заковали, Гнус-Шматов. Не глядя на меня, он прошел в большую палату проститься с товарищами.
– Прощайте, братцы, увозят! – послышался оттуда его торжественно шипевший голос. – Увозят… И что будет – неизвестно… нашлись такие друзья – погубили!
Я с любопытством присел на лавку, ожидая, не скажет ли он и мне чего-нибудь на прощанье. По-прежнему громко лязгая кандалами, Шматов вышел в коридор и, сняв шапку, низко поклонился мне по-актерски.
– Прощай и ты, Миколаич, – прогнусил он, саркастически оскаливая гнилые зубы, – прощай! Спасибо, что в кандалы заковал… Тебе обязан!
Признаюсь, такой грубой, искренне-злостной клеветы, брошенной прямо в лицо, я не ожидал даже и от Шматова. Но прежде чем, придя в себя от удивления, успел я произнести хоть одно слово в ответ, Гнус уже вышел вон торжественно замедленными шагами, заложив руки за спину.
Вслед за этим в дверь просунул голову Тропин. Ему, очевидно, не с кем было прощаться; и он показался для того только, чтобы крикнуть во всю глотку Стрельбицкому:
– Ты чего ж тут копаешься? Скорее, леший!
Он окинул меня беглым нелюбопытным взглядом и, н. е удостоив. ни одним словом, скрылся. Да и что ему было говорить? Своего он добился, а до всего остального в мире, до лжи и правды, атому человеку, не имевшему ровно ничего за душой, не было ни малейшего дела…
Стрельбицкий вышел из палаты и, тоже ничего не сказав мне на прощанье, поспешил прямо к воротам. Я глядел в окно. Там стояли уже под дождем, в ожидании, Азиадинов, Тропин и Шматов. Быстрой, легкой походкой, ухарски заломив набок круглую арестантскую шапочку, шел к ним из тюрьмы Юхорев, вскинув на плечо свой мешок с вещами. В больницу он не зашел. Замок щелкнул – ворота распахнулись настежь, приняли в свою пасть пятерых друзей и снова громко захлопнулись. На новую жизнь! Не пожалеют ли когда-нибудь эти люди и о Шелайской тюрьме, не вспомнят ли с сочувствием о тех, кого теперь, уходя, пытались оплевать и закидать грязью?..
Башуров и Штейнгарт явились ко мне с тюремными новостями.
– Ну что, Иван Николаевич, заходили к вам прощаться?
Я рассказал о сцене, устроенной мне Гнусом.
– Ну, значит, точь-в-точь та же песня, которую и мы слышали, – с горечью рассмеялся Штейнгарт. – К нам Шматов и Юхорев вместе зашли. Первый шипел что-то не совсем вразумительное, кого-то в чем-то упрекал, кого-то прощал, то и дело прерывая Юхорева, который, по обыкновению, прикрикнул наконец: "Замолчи, Гнус, не дури!" Сам он держался с обычной важностью и с первых же слов заявил, что против нас двоих никакой злобы не уносит, одного только Ивана Николаевича считает врагом. "Как вам, Юхорев, не стыдно говорить такие вещи? – воскликнул я. – Иван Николаевич прожил столько лет в тюрьме, и все видели от него одно только доброе". – "Быть может, другие, но никак не я! Мне он враг, и я когда-нибудь сумею ему отплатить". – "Он нас в кандалы заковал!" – прошипел опять Гнус. Я обратился к Юхореву: "Неужели вы верите в такую нелепость? Ну, Шматов по глупости, а вы-то?.." Он сделал решительный жест рукою: "Не будем спорить, Дмитрий Петрович; у каждого человека свои взгляды… Итак, господа, прощайте, спасибо за вашу хлеб-соль. Валерьян, не поминай лихом!" Но мы отказались подать ему руку: "Если вы думаете так дурно о нашем товарище, которого мы уважаем, так по-доброму и мы не можем расстаться с вами". Тогда Юхорев гордо выпрямился, подумал немного и, поклонившись слегка, торопливо вышел. А за ним побежал и его верный оруженосец, продолжая что-то гнусавить.
– И откуда берется такая гордость, такой язык у чистокровной, в сущности, шпаны! – загорячился Валерьян. – Вот, Иван Николаевич, плоды вашего многолетнего нежничанья с ними.
Но Штейнгарт сурово остановил его:
– Вспомни, Валерьян, свое собственное амикошонство с Юхоревым…
Башуров густо покраснел и, замолчав на некоторое время, по обыкновению надулся.
Грустное настроение овладело мною, когда товарищи ушли в тюрьму, оставив меня одного. Мысленно перебирал я свои тюремные воспоминания, год за годом, месяц за месяцем стараясь отыскать там свои ошибки, промахи, вины против посланных судьбой сотоварищей, подобрать ключ к правильному пониманию их простой и вместе загадочной психологии, на почве которой создались между нами сначала недоразумения, а затем и вражда. Я думаю… И история этих мелких тюремных бурь наводила меня на мысль о более широких аналогиях и картинах: не возможны ли подобные же (только несравненно более грустные по своим огромным размерам и важным последствиям) конфликты и на воле между интеллигентными людьми и темными народными массами?..
Было сумрачное осеннее утро перед самым началом зимы. Порывы холодного ветра стучали порой по оконным рамам крупными дождевыми каплями. Неприветливо висело низкое темное небо над неприветливым, мокрым зданием тюрьмы, делая его еще мрачнее обыкновенного, а жизнь, происходившую под его кровлей, еще страшней и удушливей. Вот резкими, точно отсыревшими звуками ударил звонок на обед; съежившиеся от холода камерные старосты пронесли из кухни баки с баландой, нагибаясь под их тяжестью. Суетливо пробежало за ними несколько праздно торчавших в кухне отощалых фигур. Тюремный день продолжал идти своей обычной колеей…
XI. Тревоги иного рода
Невеселого свойства события описывал я в предыдущих главах. И если бы события эти были финальным аккордом в сложной истории отношений темной каторжной кобылки к небольшой кучке интеллигентных арестантов, если бы они являлись чем-то вроде последнего слова в этой истории, рокового и непоправимого слова, то читатель, быть может, сделал бы из него даже более грустные выводы, чем те, к каким приходил сам я в минуту уныния и душевной слабости. И он был бы, может быть, прав… Но, к счастью, действительность в ее целом не была так мрачна. В сущности, описанные мной недоразумения и ссоры были не более как преходящим моментом из многолетней совместной жизни нашей с каторгой, моментом, который совершенно непредвиденно вынырнул из самой мирной и дружелюбной тишины, разразился рядом бурных конфликтов более или менее трагикомического свойства и затем, после увоза тюремных главарей, сменился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими отношениями, опять длившимися годы. Тем не менее этот короткий сравнительно период казался мне не лишенным своего значения и характерности; мне думалось, что отбрось я его, как нечто не типичное, мимолетное, ограничься картиной обычных отношений с арестантами, представленной в первой части очерков – и от записок моих, как от всего неполного и недосказанного, веяло бы в значительной степени неискренностью, своего рода ложным, приторно сладким сентиментализмом.
Мне остается лишь сказать по этому поводу, что пережитые треволнения не прошли без следа ни для одной из враждовавших сторон, ни для каторги, ни для меня с товарищами. Что касается первой, то, признаюсь откровенно, ее поведение не раз вызывало во мне глубочайшее удивление. Невозможно было, конечно, предполагать, чтобы летние события были забыты ею так скоро и так окончательно; напротив, по общему настроению чувствовалось нередко, что арестантами ничто не забыто… И, однако, ни разу и никто из них (даже из самых неразвитых умственно и нравственно) не заводил в нашем присутствии громкого разговора о прошлом. Точно какое-то безмолвное, но твердое соглашение состоялось между всеми на этот счет: молчать, никогда не вспоминать о том, что было. Сказывалась ли тут своего рода деликатность? Играло ли некоторую роль то обстоятельство, что под конец волнений нами усвоена была политика показного равнодушия к их исходу и твердого стояния на избранной раз позиции? Как бы то ни было, повторяю, никогда больше не видал я со стороны наших сожителей ни малейшего поползновения возобновлять ссоры.
Горечь обиды, одно время обуревавшая увлекающегося Башурова и толкавшая его на необдуманные слова и поступки, тоже скоро улеглась: от природы он был добр и незлопамятен. Крайние мнения его об арестантах, так неприятно, противоречившие одно другому и быстро менявшиеся, с течением времени смягчились и уравновесились; в конце концов взгляды наши сблизились и примирились. Но, кроме того, пережитые неприятности научили нас всех троих быть сдержаннее, зорче следить за каждым своим шагом, имевшим хоть косвенное отношение к каторге и ее интересам. Если благодаря этому поведение наше, быть может, и утратило несколько свою прежнюю непринужденность и не" посредственность, то, с другой стороны, гарантировало от новых крупных ошибок, а это было, конечно, самое главное.
Между тем наступившая осень готовила нам испытания и тревоги совсем иного рода – своеобразный кошмар, который может Иметь место только в тюрьме и только для интеллигентных людей.
Еще за полгода до прибытия в Шелай новичков у меня происходила с бравым капитаном одна беседа, которой я не придал в то время особенного значения, как одной из бесчисленных минутных фантазий капитана, в большинстве случаев никогда не видавших осуществления.
– Я не очень-то доволен теперешним состоянием тюрьмы, – в связи с чем-то другим заговорил он, нахмуривая брови, но тоном почти дружеской доверенности, – это далеко не то, о чем я когда-то мечтал и что соблазнило меня принять предложенное место начальника.
Я полюбопытствовал узнать, что, собственно, вызвало его недовольство.
– Да если хотите, все, "решительно все! Первоначальным планом, в составлении которого и я принимал участие, было устроить из Шелаевского рудника образцовую тюрьму, отличную от всех остальных каторжных тюрем. Строгость, неуклонная, чисто военная строгость во всем режиме – вот основной принцип, который был поставлен мною на вид. Я, знаете, тогда же составил докладную записку, в которой все это изложил. Я прекрасно знаю этих артистов и знаю, как нужно управлять ими!.. Тогдашний губернатор был во всем со мною согласен. Но… вам известны наши русские порядки? Канцелярщина, волокита… Каждый разумный проект разбирается десятком власть имеющих лиц, и у каждого из них собственные фантазии! Все новое, оригинальное не находит у нас признания… По моему плану, начальник Шелаевской тюрьмы должен был зависеть только от бога и губернатора, или, вернее сказать, от раз навсегда составленной инструкции. Заведующий Нерчинской каторгой никакого касательства не должен был иметь к этой тюрьме: он мог бы учиться здесь —, и ничего больше… Таков был мой идеал. Но посмотрите, что вышло в действительности! Остановились, как всегда, на полумерах! Тюрьму сделали как будто и образцовой, а с другой стороны – все оставили по-старому. Во главе дела стоит все то же управление каторгой, учреждение, скажу вам откровенно, допотопное, насквозь пропитанное чиновничьим формализмом и халатностью! Ну и что же выходит из всех моих начинаний? Ровно ничего. У меня нет никакой свободы действий, у меня положительно связаны руки… Меня ограничивают в денежных тратах, меня заставляют губить время на пустяки. Вот вам мелкий пример: по штату мне полагается помощник, обязанность которого исполнять некоторые черные работы – производить поверки арестантам, наблюдать за порядком в тюрьме, за надзирателями… Ну конечно, это необходимо и для некоторого престижа власти начальника… И что же вы думаете? Мне дали помощника, но какого? Я просил офицера, человека энергичного, решительного, способного с достоинством заменять меня самого в нужных случаях, а они назначили… какого-то отставного канцеляриста, пропойцу и теленка, которого я боюсь даже пускать в тюрьму и который способен только сидеть в конторе и строчить бумаги…
Мне живо вспомнилась фигура этого "теленка и пропойцы" – жалкая, сгорбленная, с трясущимися руками и головой, в каком-то длинном женском капоте с медными пуговицами, изображавшем собой чиновничью шинель. В тюрьме он показывался очень редко, голоса его мы почти никогда не слыхали, и никто из арестантов не знал даже об его официальном звании "помощника", а называли все "письмоводителем".
– При таких условиях тюрьма не может быть образцовой! – с горечью продолжал Лучезаров. И, в сущности, она ничем ровно не отличается от других каторжных тюрем.
– Однако, судя по рассказам арестантов, в других рудниках несравненно больше свободы…
– То есть, вы хотите сказать – распущенности? Но знаете ли, почему это? Только потому, что я здесь… Поставьте на мое место кого-либо из обыкновенных смотрителей – и завтра же вы не отличите Шелаевской тюрьмы от Зерентуйской, Алгачийской и всякой другой!