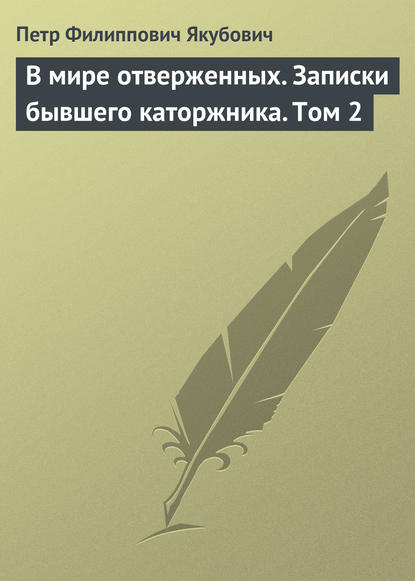По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И бравый капитан приготовился, по-видимому, читать бумагу; но он как-то необычайно мялся, словно находясь в колебании: быть может, он действительно не знал раньше о степени болезни Золота и теперь поражен был видом умирающего… Прочитав несколько строк, он вдруг остановился и сложил бумагу.
– Я думаю, лишнее читать целиком, – заговорил он, – я лучше на словах скажу тебе… Видишь ли что. Вам с Кольяровым объявляется набавка по пяти лет… Кольярову-то, конечно, и придется вынести это наказание, но ты… но тебе…
Великолепный Лучезаров окончательно растерялся и чуть было не сказал, что несчастный должен умереть гораздо раньше; но он поправился:
– Но ты, старина, не унывай! Я хлопотать о тебе стану, и наказание могут отменить. Вам еще и по сорока пяти плетей назначено… Кольярову, конечно, и плети сполна будут высчитаны, он этого заслужил… Он порядочный мерзавец, этот Кольяров! Ну, а ты… ты, повторяю, и плетей тоже не бойся. Тебе их не будет, совсем не будет. Я похлопочу – и доктор освободит тебя! Ну, будь здоров, поправляйся, братец!
И красный как пион Лучезаров торопливо выбежал вон из палаты. Я едва успел захлопнуть свою дверь, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу.
Ни свидетельства тюремного доктора, ни великодушного заступничества доброго начальника Залате, однако, уже не понадобилось: ровно через два дня его не стало. Умер он так же тихо, как и жил; ни арестанты-товарищи, ни надзиратели, никто не видел его последних минут. Проснулись больные рано утром и нашли на соседней койке остывший, недвижный труп. На исхудалом, как щепка, лице мертвеца с плотно закрытыми, глубоко впавшими веками и реденькой седой бородкой замерла кроткая, счастливая улыбка… Окончился злой кошмар! Свобода!
XVIII. Сон наяву
Опять наступало лето со всей своей раздражающей прелестью. Я не мог, разумеется, предвидеть, что это будет последнее мое тюремное лето, и душу наполняли обычная тоска и горечь. Это лето было для меня тем тяжелее, что мартовская болезнь оставила в наследство постоянные боли в руках и ногах, и врач, посетивший весною Шелайский рудник, освободил меня на неопределенное время от обязательной работы. Фамилию мою перестали выкликать на вечерних нарядах, и я безвыходно сидел с этих пор в тюремных стенах, невыносимо грустя и скучая. Любимым местом, где я проводил теперь целые часы, прислушиваясь к щебетанью летавших около своих гнезд щурков и к доносившимся издалека голосам арестантов, сделалась для меня одна из трех стоявших во двое солдатских будок; это было единственное в тюрьме место, куда можно было хоть на минуту укрыться от человеческих глаз. Будки эти имели следующее происхождение. В начале существования шелайской образцовой тюрьмы, когда бравый капитан особенно боялся побегов, он настоял, чтобы казацкие караульные посты имелись не только с наружной стороны тюрьмы, как во всех обыкновенных, тюрьмах, но также и внутри ее. С этой целью в различных пунктах нашего двора и были поставлены четыре сторожевых будки; около них днем и ночью расхаживали казаки с ружьями. Прогулки арестантов по двору были вследствие этого затруднены; то и дело слышались грозные оклики:, "Куда идешь? Сворачивай!" Но не это, конечно, обстоятельство послужило вскоре причиной отмены внутренних постов, а чисто физическая невозможность малочисленной казацкой сотне исполнять все возложенные на нее функции. Бедные служители Марса[40 - Марс – в римской мифологии бог войны. Служителями Марса здесь в ироническом смысле названы казаки.] очень скоро выбились из сил и, стоя на часах, чуть не падали с ног от утомления и долгой бессонницы; есаул принужден был начать хлопотать об уменьшении числа караульных постов. И вот результатом этого ходатайства и была отмена внутреннего караула. К обоюдному восторгу арестантов и казаков последним приказано было покинуть тюрьму, и весь двор стал с этого дня доступным для наших прогулок. Утащили казаки и одну из своих тяжеловесных будок:, арестанты думали, что и остальные три подвергнутся той же участи, но они почему-то оставлены были "на время" на старых местах. Время между тем шло; начальство, должно быть, позабыло даже о существовании будок, и они так и остались навсегда достоянием кобылки: одна стояла возле кухни, другая – в углу за больницей, третья дальше всех от шума и сутолоки – под окнами одной из средних камер. Вот эта-то последняя будка и пришлась по сердцу моей мечтательности: под ее уютной кровлей нередко записывал я на память для себя и, свои тюремные впечатления. Задумавшись однажды, я так погрузился в свое занятие, что не слышал пронзительного свистка дежурного надзирателя, предупреждавшего арестантов о приходе в тюрьму начальства. Я вздрогнул и опомнился только тогда, когда в двух шагах от моего убежища раздался знакомый, властный голос: это Шестиглазый, делая обход вокруг тюрьмы, говорил о чем-то с надзирателем, и едва успел я сунуть в карман карандаш и бумагу, как уже встретился с ним глазами… Бравый капитан в ответ на мой поклон только значительно гмыкнул, однако ничего не сказал и прошел дальше.
С наступлением новой весны начальство начало, как всегда, бить тревогу и усиливать осторожность; а однажды бравый капитан (вскоре ожидавший, как говорили, какого-то повышения по службе и потому особенно боявшийся теперь побегов) решился даже, отступая от обычных своих приемов, повлиять на разум своих подчиненных. Явившись на поверку с листком бумаги в руках, он обратился к ним со следующей речью.
– Я знаю, что многие из вас с наступлением теплого времени имеют дурную привычку задумываться насчет возможности бежать из тюрьмы. Дело это, конечно, ваше, так же как мое – не допускать побегов. И будьте уверены, я не допущу их! Но мне жаль все-таки тех легкомысленных, которые могут увлечься нелепой мечтой или послушаться злонамеренных коноводов. Я хотел бы поэтому, чтоб они пошевелили мозгами… С этой целью я пересмотрел все приказы Нерчинской каторги за… (И Лучезаров назвал какой-то очень большой период времени – не помню в точности, какой именно, но чуть ли не все последнее столетие) и сосчитал, сколько было совершено за этот срок побегов из каторжных тюрем. И что же вы думаете? Я был удивлен полученными результатами. Оказалось, что за это огромное время пыталось бежать из тюремных стен всего только семьдесят девять человек, из них лишь троим – заметьте, троим! – удалось скрыться бесследно. Все прочие или в самый момент побега были застигнуты и убиты, или же в самом непродолжительном времени пойманы и возвращены в тюрьму. Так вот что говорят цифры: не так-то легко, значит, бежать!.. Поразмыслите же об этом хорошенько, прежде чем решитесь затеять подобную глупость.
Речь эта рассчитана была, вероятно, на подавляющий эффект, и, однако, никакого эффекта не получилось. Статистика бравого капитана даже мне показалась довольно-таки шатким экспромтом, арестанты же, вернувшись в камеры, прямо подняли ее на смех. В минуту насчитано было около двух десятков побегов, совершенных в самые последние годы, и из них чуть не половина была будто бы удачных… Фантазировала ли в этом случае кобылка, склонная всегда к оптимизму? Тенденциозно ли сделал капитан свой любопытный подсчет, поставив, например, вместо 179 цифру 79, а вместо 33 просто 3? У меня нет никаких данных утверждать это с положительностью: весьма возможно даже, что Лучезаров был и прав (если не безусловно, то приблизительно), но в таком случае ему нужно было подробнее остановиться на своих поучительных цифрах, доказать арестантам их точность документальными данными, перечислив всех беглецов поименно. Только такой полной, до конца договоренной правдой можно было рассчитывать произвести на каторгу какое-либо впечатление.
Теперь же Лучезаров достиг результатов скорее противоположных тем, каких добивался: "пошевелив мозгами", легкомысленные в пух и прах раскритиковали его речь, посмеялись над нею и легли спать в большей даже, чем раньше, уверенности, что для "духового" человека удачный побег всегда и отовсюду возможен.
С своей стороны, и Шестиглазый мало, по-видимому, уверовал в силу своего красноречия: он чаще обыкновенного навещал последним летом тюрьму и пробовал с надзирателями прочность оконных решеток. Последнее делалось, впрочем, больше для успокоения совести, так как все отлично понимали, что если бы кто из арестантов и задумал побег, то выбрал бы какой-либо иной путь, оставив решетки в покое. По крайней мере те надзиратели, с которыми мне приходилось разговаривать на эту тему, считали побег не только из камер, но даже и со двора тюрьмы делом совершенно невозможным, а один из них (тот самый, которого арестанты звали Проней Живой Смертью) выразился раз даже так:
– Помилуйте! Да это сон наяву был бы, кабы из нашей тюрьмы кто бежал… Немыслимое это дело!
Да и сами арестанты, мечтая иногда вслух о побегах, никогда почти не останавливались на мысли бежать через тюремную ограду или через подкоп. Последний действительно был немыслим при строгости шелайских порядков и малолюдстве арестантов; что же касается ограды, то побег через нее возможен был бы только днем, следовательно – на глазах у часовых; несравненно поэтому легче было бы бежать во время работы, на глазах у тех же часовых, но где-нибудь ближе к лесу и без такой трудной преграды на пути, как высокая каменная стена. И арестантские мечты о побеге, в самом деле, направлялись главным образом на рудник. Никогда не собираясь бежать сам, даже я не мог иногда отделаться от общей арестантам склонности мечтать о побеге. Мне казалось, например, что наибольшее удобство для этого представляла горная светлячка, возле которой ставился всегда только один часовой; прочие конвойные сидели все время в светличке или спали на открытом воздухе, лишь случайно и рассеянно поглядывая по сторонам. Мне казалось, что, пользуясь условленными заранее сигналами товарищей, ничего не стоило обмануть этого часового и, прикрываясь от глаз его зданием самой светлячки, уйти в гору и скрыться в лесу. Побег, совершенный таким способом рано поутру, был бы обнаружен не раньше трех часов дня, когда арестанты возвращались обыкновенно в тюрьму, – и какое расстояние успел бы пройти беглец за эти семь – восемь часов!.. Но что было бы дальше? Дальше мечты мои, однако, не заглядывали, так как серьезно, повторяю, я бежать не собирался, и для моей фантазии интересен был только первый, наиболее романтический акт побега. Да я и потому еще не мог фантазировать о дальнейших шагах бегства, что и местность, и люди, и условия жизни в Забайкальской области были мне абсолютно незнакомы. Я знал одно только из рассказов тех же арестантов, что бегство через Забайкалье несравненно труднее, чем через какую-либо иную часть Сибири, вследствие того, что населено оно казаками, сыновья и братья которых служат в конвойных и тюремных командах и несут ответственность за каждый совершенный из-под их караула побег. Всякий поэтому неизвестный прохожий возбуждает в жителях подозрительность, и заведомый беглец не должен ожидать себе пощады.
Что те или другие арестанты серьезно мечтают о побеге, ни для кого в тюрьме и даже вне тюрьмы не было тайной; на постоянном счету у начальства был, например, Петин-Сохатый. Слишком уж громкая слава бегуна окружала в прошлом его имя, и хотя в настоящее время слава эта в значительной степени поблекла и померкла, хотя не только арестанты, но и надзиратели относились давно скептически к тому, чтобы он решился когда-нибудь бежать из "образцовой" Шелайской тюрьмы, побег из которой представлялся им "сном наяву", но все-таки для верности за ним приглядывали тщательнее, чем за кем другим. Проходило, однако, лето за летом, а Сохатый все сидел да сидел и все ниже и ниже падал в глазах насмешливой кобылки. Прошел было слух и в последнее лето, что Сохатый что-то затевает; сам" он бродил по тюрьме угрюмый и злой, забросив учение, немилосердно лодырничая на работе и, видимо, нервничая, но от этого было далеко еще до серьезных приготовлений к побегу. К тому же как раз в это самое лето он перегрызся со всеми выдающимися арестантами и остался совсем одиноким… Единственный человек в тюрьме, с кем он теперь дружил, был молоденький татарин Кантауров, которого звали просто Малайкой. Тонкий и длинный как комар, безусый, Кантауров совсем походил еще на мальчика, и его странная дружба с Сохатым вызывала общие недоумения и недвусмысленные порой намеки.
– Связался черт с младенцем! – говорила про них кобылка, и если Сохатый и не был настоящим чертом, то про его нового приятеля рассказывали, будто он кричал во сне: "Ма-ма!" и так чмокал губами, точно сосал соску.
– Домой хочешь, Малайка? Дом – якши, тюрьма – яман?
– Якши дом, ух, якши! – отвечал Малайка, улыбаясь во всю рожу и зажмуривая глаза, и даже длинные уши его дергались от удовольствия.
Странное обстоятельство привело этого юношу в каторгу. Братья его были профессиональные чаерезы. Кантауров отправился с ними на грабеж, даже не зная хорошенько, куда и зачем они идут, по чисто детскому, традиционному чувству братского долга. Все грабители были вскоре уличены, и хотя первые же шаги дознания выяснили, что участие младшего из братьев в преступлении было вполне бессознательное, но на всякий случай и его также арестовали и посадили в тюрьму. Не просидев, однако, и двух недель под замком, Малайка сильно загрустил. Заметившие, это арестанты принялись смеяться над ним:
– Неужто не бежишь, Малайка? Неужто обробеешь?
В Малайке заговорило самолюбие.
– Моя захотит – сичас бежать станет!
– Так ты захоти, дурак!
И Малайка удивил тюрьму. Раз, когда надзиратель отворил ворота, чтобы арестанты ввезли в них бочку с водой, он кинулся со всего разбега вон из тюрьмы, сбил с ног надзирателя – и не успел часовой опомниться и дать выстрел, как он уже скрылся в соседних кустах.
– Вот так молодчага, наш Малайка! – говорила изумленная и восхищенная шпанка, но самому молодчаге дорого досталось это молодечество. Когда месяц спустя он был наконец пойман, то следователь не мог уже отнестись к нему как к невинному младенцу; в глазах суда он тоже явился ловким и смелым до дерзости преступником. И вот не успел мой легкомысленный герой очнуться, как ни за что ни про что попал в Шелай. Теперь бедняга сделался, по-видимому, умнее и никакие подзуживанья кобылки уже не имели над ним власти.
– Нет, моя глупа была, – говорил он прямо, – вот и попала каторга… Четыре месяца высидки – айда домой. Нет, моя не хотела… Ну, так ступай каторга! Ну, как не глупа? Теперь Малайка умный, сидеть будет, строк ждать. Пришел строк – и начальник моя домой пущай!
– Дурачина ты, дурачина, – разочаровывали его арестанты, – да где твой дом-то? В Казанской губернии? Ну, а ты ведь после каторги поселен будешь в Забайкалье аль по Якутскому тракту. И понюхать тебе дома-то не дадут! На веки вечные простись теперь с своим домом!
Малайка слушал подобные речи хоть и с недоверием, но с затаенной тревогой.
– Дурак, все равно ведь с поселения-то бежать придется, так лучше же из тюрьмы, – со смехом продолжала подзуживать кобылка.
– Моя с населения айда домой! – радостно подхватывал Малайка и, лопоча что-то непонятное на своем языке, поспешно убегал прочь.
Татар, сартов, киргизов скопилось за последнее время в Шелайской тюрьме особенно много, но из всей этой массы наиболее выдавался как внешней, так и внутренней оригинальностью татарин Оренбургской губернии Ибрагим-Нуреддин-Сарафетдинов, прославившийся своими многочисленными побегами из-под стражи. Мудреное имя его с трудом выговаривали не только арестанты, но и надзиратели, и потому он всем известен был под коротким прозвищем Садыка. Высокого роста, превосходного сложения, с проницательными косыми глазами на красивом энергичном лице, Садык производил впечатление человека свирепого и в высшей степени отважного. Я никогда не видал его в спокойном состоянии – сидящим или лежащим на нарах; все в этом человеке жило, кипело и двигалось; сейчас он находился в одной камере, через минуту вы уже встречали его в противоположном углу тюрьмы на дворе. И всегда он был при этом одинок и угрюмо-молчалив. Странный характер носили также прогулки Садыка по двору: он не ходил тихим или быстрым шагом, как все прочие арестанты, а бегал дробной рысцой, низко наклонив вперед огромное тело и пугая встречных своими косыми огненными глазами, глядевшими неизвестно на кого и на что, и, подобно "доброму иноходцу", как выражалась кобылка, производил такой моцион иногда по целому часу.
Этого человека и казацкий конвой и тюремная администрация всегда держали на особой примете. В подозрении находились также Сокольцев, Чащин, Карасев все и другие, за кем числились в прошлом побеги. Однако лето, прошло благополучно, и начальство опять вздохнуло свободно: в конце августа, конечно, уж никто не вздумает бежать. К тому же завернули внезапно холода.
В одно из последних чисел августа, под вечер, я и Башуров совершенно неожиданно вызваны были в контору. Шестиглазый, увидав нас, просиял как солнце.
– Ну-с, позвольте вас поздравить, господа, – сказал он, торжественно поднимаясь с места, и это странное предисловие сдавило мне сердце не столько радостным, сколько болезненным предчувствием, – позвольте поздравить со свободой… Только что получилась почта с приказом. Вот читайте. К Валерьяну Башурову применен манифест, по которому он немедленно переводится в разряд ссыльнопоселенцев… Ну, а что касается вас, – обратился Лучезаров ко мне, улыбаясь, – то вы не могли, конечно, попасть сразу на поселение, но вы теперь же отправляетесь в вольную команду.
И Лучезаров торжествующим взором оглядывал меня, как бы стараясь прочесть на моем лице выражение радостного волнения. По-видимому, он немало удивлен был, услышав из моих уст один только холодный вопрос:
– Отправляюсь?.. Куда же это я отправляюсь?
– Да, я и забыл, то есть не успел сказать вам, – отвечал капитан, несколько нахмуриваясь, – признано неудобным оставить вас при этой же тюрьме в вольной команде… Были, знаете, разные соображения… Так что вы переводитесь в Кадаинский рудник.[41 - В сентябре 1893 г. Якубович, после девяти лет заключения, был выпущен в вольную команду в Кадаинский рудник. В 1895 г. вышел на поселение в г. Курган.]
– Скоро ли мы будем отправлены? – полюбопытствовал Башуров.
– Это будет зависеть от того, когда придет сретенский конвой. Во всяком случае, с завтрашнего же дня вы освобождаетесь от каторжных работ.
Раскланявшись с бравым капитаном, мы отправились в тюрьму. Здесь с быстротой молнии разнеслось известие о нашем освобождении и арестанты с радостными улыбками то и дело подходили к нам с поздравлениями и добрыми пожеланиями.
В ожидании прихода сретенского конвоя нам пришлось, однако, прожить в Шелайской тюрьме еще целый месяц, и за этот последний месяц произошло столько важных событий, что в другое время их могло бы хватить на. целый год. Нельзя, впрочем, не принять здесь и того во внимание, что теперь мы с удвоенным любопытством приглядывались к своим сожителям, не без сожаления и грусти помышляя о том, что доживаем, в их обществе последние дни, и потому все, что происходило вокруг, врезывалось в память с удвоенной силой. В отношениях кобылки ко мне и к Башурову также чувствовалась какая-то небывалая мягкость, почти что любовность: на лицах самых суровых, самых неразговорчивых в прежнее время субъектов при встречах с нами неизменно появлялась теперь приветливая улыбка, шаги сами собой замедлялись, язык обнаруживал склонность к излияниям чувств… "Ученики" особенно искренно жалели о нашем отъезде, так как теперь в лице Штейнгарта на всю тюрьму оставался один только учитель; Луньков не уставал засыпать меня всевозможными вопросами, усиленно стремясь набраться за остающиеся дни всякой книжной премудрости.
В самом непродолжительном времени ожидалось между тем прибытие губернатора, и в тюрьме все опять волновалось, суетилось, скреблось, чистилось, приводилось в порядок. Был вечер последнего августовского дня. После проверки между Луньковым и Сохатым произошло обычное столкновение. Первый болтал без умолку, философствуя на ту тему, что будь он на воле грамотным, как теперь, ни за что бы не попал он в каторгу, "как иные прочие храпы и глоты". Сохатый ничего не говорил, он то и дело встречал насмешливым фырканьем хвастливые речи соперника. Это наконец раздражило Лунькова, и он обратился к Сохатому:
– Чего ты там фыркаешь, вечный ты тюремный житель?
– Кто? Это я-то вечный тюремный житель? – поднялся Сохатый с нар.
– Вестимо, ты! Ты об одном ведь и тужишь только, что двух аль трех жизней в тюрьме провести не можешь.
– Осел! Да я, может, захочу – завтра же с тюрьмой распрощаюсь!
– После дождичка в четверг, а завтра еще суббота только. Гремел ты когда-то Сохатым, а нынче гремишь, как у меня пустое брюхо гремит. Ну и выходит, что вечный ты тюремный житель!
– Повтори, трепач, что ты сказал!
– То и сказал – вечный тюремный житель, кухонный костогрыз!
– Я думаю, лишнее читать целиком, – заговорил он, – я лучше на словах скажу тебе… Видишь ли что. Вам с Кольяровым объявляется набавка по пяти лет… Кольярову-то, конечно, и придется вынести это наказание, но ты… но тебе…
Великолепный Лучезаров окончательно растерялся и чуть было не сказал, что несчастный должен умереть гораздо раньше; но он поправился:
– Но ты, старина, не унывай! Я хлопотать о тебе стану, и наказание могут отменить. Вам еще и по сорока пяти плетей назначено… Кольярову, конечно, и плети сполна будут высчитаны, он этого заслужил… Он порядочный мерзавец, этот Кольяров! Ну, а ты… ты, повторяю, и плетей тоже не бойся. Тебе их не будет, совсем не будет. Я похлопочу – и доктор освободит тебя! Ну, будь здоров, поправляйся, братец!
И красный как пион Лучезаров торопливо выбежал вон из палаты. Я едва успел захлопнуть свою дверь, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу.
Ни свидетельства тюремного доктора, ни великодушного заступничества доброго начальника Залате, однако, уже не понадобилось: ровно через два дня его не стало. Умер он так же тихо, как и жил; ни арестанты-товарищи, ни надзиратели, никто не видел его последних минут. Проснулись больные рано утром и нашли на соседней койке остывший, недвижный труп. На исхудалом, как щепка, лице мертвеца с плотно закрытыми, глубоко впавшими веками и реденькой седой бородкой замерла кроткая, счастливая улыбка… Окончился злой кошмар! Свобода!
XVIII. Сон наяву
Опять наступало лето со всей своей раздражающей прелестью. Я не мог, разумеется, предвидеть, что это будет последнее мое тюремное лето, и душу наполняли обычная тоска и горечь. Это лето было для меня тем тяжелее, что мартовская болезнь оставила в наследство постоянные боли в руках и ногах, и врач, посетивший весною Шелайский рудник, освободил меня на неопределенное время от обязательной работы. Фамилию мою перестали выкликать на вечерних нарядах, и я безвыходно сидел с этих пор в тюремных стенах, невыносимо грустя и скучая. Любимым местом, где я проводил теперь целые часы, прислушиваясь к щебетанью летавших около своих гнезд щурков и к доносившимся издалека голосам арестантов, сделалась для меня одна из трех стоявших во двое солдатских будок; это было единственное в тюрьме место, куда можно было хоть на минуту укрыться от человеческих глаз. Будки эти имели следующее происхождение. В начале существования шелайской образцовой тюрьмы, когда бравый капитан особенно боялся побегов, он настоял, чтобы казацкие караульные посты имелись не только с наружной стороны тюрьмы, как во всех обыкновенных, тюрьмах, но также и внутри ее. С этой целью в различных пунктах нашего двора и были поставлены четыре сторожевых будки; около них днем и ночью расхаживали казаки с ружьями. Прогулки арестантов по двору были вследствие этого затруднены; то и дело слышались грозные оклики:, "Куда идешь? Сворачивай!" Но не это, конечно, обстоятельство послужило вскоре причиной отмены внутренних постов, а чисто физическая невозможность малочисленной казацкой сотне исполнять все возложенные на нее функции. Бедные служители Марса[40 - Марс – в римской мифологии бог войны. Служителями Марса здесь в ироническом смысле названы казаки.] очень скоро выбились из сил и, стоя на часах, чуть не падали с ног от утомления и долгой бессонницы; есаул принужден был начать хлопотать об уменьшении числа караульных постов. И вот результатом этого ходатайства и была отмена внутреннего караула. К обоюдному восторгу арестантов и казаков последним приказано было покинуть тюрьму, и весь двор стал с этого дня доступным для наших прогулок. Утащили казаки и одну из своих тяжеловесных будок:, арестанты думали, что и остальные три подвергнутся той же участи, но они почему-то оставлены были "на время" на старых местах. Время между тем шло; начальство, должно быть, позабыло даже о существовании будок, и они так и остались навсегда достоянием кобылки: одна стояла возле кухни, другая – в углу за больницей, третья дальше всех от шума и сутолоки – под окнами одной из средних камер. Вот эта-то последняя будка и пришлась по сердцу моей мечтательности: под ее уютной кровлей нередко записывал я на память для себя и, свои тюремные впечатления. Задумавшись однажды, я так погрузился в свое занятие, что не слышал пронзительного свистка дежурного надзирателя, предупреждавшего арестантов о приходе в тюрьму начальства. Я вздрогнул и опомнился только тогда, когда в двух шагах от моего убежища раздался знакомый, властный голос: это Шестиглазый, делая обход вокруг тюрьмы, говорил о чем-то с надзирателем, и едва успел я сунуть в карман карандаш и бумагу, как уже встретился с ним глазами… Бравый капитан в ответ на мой поклон только значительно гмыкнул, однако ничего не сказал и прошел дальше.
С наступлением новой весны начальство начало, как всегда, бить тревогу и усиливать осторожность; а однажды бравый капитан (вскоре ожидавший, как говорили, какого-то повышения по службе и потому особенно боявшийся теперь побегов) решился даже, отступая от обычных своих приемов, повлиять на разум своих подчиненных. Явившись на поверку с листком бумаги в руках, он обратился к ним со следующей речью.
– Я знаю, что многие из вас с наступлением теплого времени имеют дурную привычку задумываться насчет возможности бежать из тюрьмы. Дело это, конечно, ваше, так же как мое – не допускать побегов. И будьте уверены, я не допущу их! Но мне жаль все-таки тех легкомысленных, которые могут увлечься нелепой мечтой или послушаться злонамеренных коноводов. Я хотел бы поэтому, чтоб они пошевелили мозгами… С этой целью я пересмотрел все приказы Нерчинской каторги за… (И Лучезаров назвал какой-то очень большой период времени – не помню в точности, какой именно, но чуть ли не все последнее столетие) и сосчитал, сколько было совершено за этот срок побегов из каторжных тюрем. И что же вы думаете? Я был удивлен полученными результатами. Оказалось, что за это огромное время пыталось бежать из тюремных стен всего только семьдесят девять человек, из них лишь троим – заметьте, троим! – удалось скрыться бесследно. Все прочие или в самый момент побега были застигнуты и убиты, или же в самом непродолжительном времени пойманы и возвращены в тюрьму. Так вот что говорят цифры: не так-то легко, значит, бежать!.. Поразмыслите же об этом хорошенько, прежде чем решитесь затеять подобную глупость.
Речь эта рассчитана была, вероятно, на подавляющий эффект, и, однако, никакого эффекта не получилось. Статистика бравого капитана даже мне показалась довольно-таки шатким экспромтом, арестанты же, вернувшись в камеры, прямо подняли ее на смех. В минуту насчитано было около двух десятков побегов, совершенных в самые последние годы, и из них чуть не половина была будто бы удачных… Фантазировала ли в этом случае кобылка, склонная всегда к оптимизму? Тенденциозно ли сделал капитан свой любопытный подсчет, поставив, например, вместо 179 цифру 79, а вместо 33 просто 3? У меня нет никаких данных утверждать это с положительностью: весьма возможно даже, что Лучезаров был и прав (если не безусловно, то приблизительно), но в таком случае ему нужно было подробнее остановиться на своих поучительных цифрах, доказать арестантам их точность документальными данными, перечислив всех беглецов поименно. Только такой полной, до конца договоренной правдой можно было рассчитывать произвести на каторгу какое-либо впечатление.
Теперь же Лучезаров достиг результатов скорее противоположных тем, каких добивался: "пошевелив мозгами", легкомысленные в пух и прах раскритиковали его речь, посмеялись над нею и легли спать в большей даже, чем раньше, уверенности, что для "духового" человека удачный побег всегда и отовсюду возможен.
С своей стороны, и Шестиглазый мало, по-видимому, уверовал в силу своего красноречия: он чаще обыкновенного навещал последним летом тюрьму и пробовал с надзирателями прочность оконных решеток. Последнее делалось, впрочем, больше для успокоения совести, так как все отлично понимали, что если бы кто из арестантов и задумал побег, то выбрал бы какой-либо иной путь, оставив решетки в покое. По крайней мере те надзиратели, с которыми мне приходилось разговаривать на эту тему, считали побег не только из камер, но даже и со двора тюрьмы делом совершенно невозможным, а один из них (тот самый, которого арестанты звали Проней Живой Смертью) выразился раз даже так:
– Помилуйте! Да это сон наяву был бы, кабы из нашей тюрьмы кто бежал… Немыслимое это дело!
Да и сами арестанты, мечтая иногда вслух о побегах, никогда почти не останавливались на мысли бежать через тюремную ограду или через подкоп. Последний действительно был немыслим при строгости шелайских порядков и малолюдстве арестантов; что же касается ограды, то побег через нее возможен был бы только днем, следовательно – на глазах у часовых; несравненно поэтому легче было бы бежать во время работы, на глазах у тех же часовых, но где-нибудь ближе к лесу и без такой трудной преграды на пути, как высокая каменная стена. И арестантские мечты о побеге, в самом деле, направлялись главным образом на рудник. Никогда не собираясь бежать сам, даже я не мог иногда отделаться от общей арестантам склонности мечтать о побеге. Мне казалось, например, что наибольшее удобство для этого представляла горная светлячка, возле которой ставился всегда только один часовой; прочие конвойные сидели все время в светличке или спали на открытом воздухе, лишь случайно и рассеянно поглядывая по сторонам. Мне казалось, что, пользуясь условленными заранее сигналами товарищей, ничего не стоило обмануть этого часового и, прикрываясь от глаз его зданием самой светлячки, уйти в гору и скрыться в лесу. Побег, совершенный таким способом рано поутру, был бы обнаружен не раньше трех часов дня, когда арестанты возвращались обыкновенно в тюрьму, – и какое расстояние успел бы пройти беглец за эти семь – восемь часов!.. Но что было бы дальше? Дальше мечты мои, однако, не заглядывали, так как серьезно, повторяю, я бежать не собирался, и для моей фантазии интересен был только первый, наиболее романтический акт побега. Да я и потому еще не мог фантазировать о дальнейших шагах бегства, что и местность, и люди, и условия жизни в Забайкальской области были мне абсолютно незнакомы. Я знал одно только из рассказов тех же арестантов, что бегство через Забайкалье несравненно труднее, чем через какую-либо иную часть Сибири, вследствие того, что населено оно казаками, сыновья и братья которых служат в конвойных и тюремных командах и несут ответственность за каждый совершенный из-под их караула побег. Всякий поэтому неизвестный прохожий возбуждает в жителях подозрительность, и заведомый беглец не должен ожидать себе пощады.
Что те или другие арестанты серьезно мечтают о побеге, ни для кого в тюрьме и даже вне тюрьмы не было тайной; на постоянном счету у начальства был, например, Петин-Сохатый. Слишком уж громкая слава бегуна окружала в прошлом его имя, и хотя в настоящее время слава эта в значительной степени поблекла и померкла, хотя не только арестанты, но и надзиратели относились давно скептически к тому, чтобы он решился когда-нибудь бежать из "образцовой" Шелайской тюрьмы, побег из которой представлялся им "сном наяву", но все-таки для верности за ним приглядывали тщательнее, чем за кем другим. Проходило, однако, лето за летом, а Сохатый все сидел да сидел и все ниже и ниже падал в глазах насмешливой кобылки. Прошел было слух и в последнее лето, что Сохатый что-то затевает; сам" он бродил по тюрьме угрюмый и злой, забросив учение, немилосердно лодырничая на работе и, видимо, нервничая, но от этого было далеко еще до серьезных приготовлений к побегу. К тому же как раз в это самое лето он перегрызся со всеми выдающимися арестантами и остался совсем одиноким… Единственный человек в тюрьме, с кем он теперь дружил, был молоденький татарин Кантауров, которого звали просто Малайкой. Тонкий и длинный как комар, безусый, Кантауров совсем походил еще на мальчика, и его странная дружба с Сохатым вызывала общие недоумения и недвусмысленные порой намеки.
– Связался черт с младенцем! – говорила про них кобылка, и если Сохатый и не был настоящим чертом, то про его нового приятеля рассказывали, будто он кричал во сне: "Ма-ма!" и так чмокал губами, точно сосал соску.
– Домой хочешь, Малайка? Дом – якши, тюрьма – яман?
– Якши дом, ух, якши! – отвечал Малайка, улыбаясь во всю рожу и зажмуривая глаза, и даже длинные уши его дергались от удовольствия.
Странное обстоятельство привело этого юношу в каторгу. Братья его были профессиональные чаерезы. Кантауров отправился с ними на грабеж, даже не зная хорошенько, куда и зачем они идут, по чисто детскому, традиционному чувству братского долга. Все грабители были вскоре уличены, и хотя первые же шаги дознания выяснили, что участие младшего из братьев в преступлении было вполне бессознательное, но на всякий случай и его также арестовали и посадили в тюрьму. Не просидев, однако, и двух недель под замком, Малайка сильно загрустил. Заметившие, это арестанты принялись смеяться над ним:
– Неужто не бежишь, Малайка? Неужто обробеешь?
В Малайке заговорило самолюбие.
– Моя захотит – сичас бежать станет!
– Так ты захоти, дурак!
И Малайка удивил тюрьму. Раз, когда надзиратель отворил ворота, чтобы арестанты ввезли в них бочку с водой, он кинулся со всего разбега вон из тюрьмы, сбил с ног надзирателя – и не успел часовой опомниться и дать выстрел, как он уже скрылся в соседних кустах.
– Вот так молодчага, наш Малайка! – говорила изумленная и восхищенная шпанка, но самому молодчаге дорого досталось это молодечество. Когда месяц спустя он был наконец пойман, то следователь не мог уже отнестись к нему как к невинному младенцу; в глазах суда он тоже явился ловким и смелым до дерзости преступником. И вот не успел мой легкомысленный герой очнуться, как ни за что ни про что попал в Шелай. Теперь бедняга сделался, по-видимому, умнее и никакие подзуживанья кобылки уже не имели над ним власти.
– Нет, моя глупа была, – говорил он прямо, – вот и попала каторга… Четыре месяца высидки – айда домой. Нет, моя не хотела… Ну, так ступай каторга! Ну, как не глупа? Теперь Малайка умный, сидеть будет, строк ждать. Пришел строк – и начальник моя домой пущай!
– Дурачина ты, дурачина, – разочаровывали его арестанты, – да где твой дом-то? В Казанской губернии? Ну, а ты ведь после каторги поселен будешь в Забайкалье аль по Якутскому тракту. И понюхать тебе дома-то не дадут! На веки вечные простись теперь с своим домом!
Малайка слушал подобные речи хоть и с недоверием, но с затаенной тревогой.
– Дурак, все равно ведь с поселения-то бежать придется, так лучше же из тюрьмы, – со смехом продолжала подзуживать кобылка.
– Моя с населения айда домой! – радостно подхватывал Малайка и, лопоча что-то непонятное на своем языке, поспешно убегал прочь.
Татар, сартов, киргизов скопилось за последнее время в Шелайской тюрьме особенно много, но из всей этой массы наиболее выдавался как внешней, так и внутренней оригинальностью татарин Оренбургской губернии Ибрагим-Нуреддин-Сарафетдинов, прославившийся своими многочисленными побегами из-под стражи. Мудреное имя его с трудом выговаривали не только арестанты, но и надзиратели, и потому он всем известен был под коротким прозвищем Садыка. Высокого роста, превосходного сложения, с проницательными косыми глазами на красивом энергичном лице, Садык производил впечатление человека свирепого и в высшей степени отважного. Я никогда не видал его в спокойном состоянии – сидящим или лежащим на нарах; все в этом человеке жило, кипело и двигалось; сейчас он находился в одной камере, через минуту вы уже встречали его в противоположном углу тюрьмы на дворе. И всегда он был при этом одинок и угрюмо-молчалив. Странный характер носили также прогулки Садыка по двору: он не ходил тихим или быстрым шагом, как все прочие арестанты, а бегал дробной рысцой, низко наклонив вперед огромное тело и пугая встречных своими косыми огненными глазами, глядевшими неизвестно на кого и на что, и, подобно "доброму иноходцу", как выражалась кобылка, производил такой моцион иногда по целому часу.
Этого человека и казацкий конвой и тюремная администрация всегда держали на особой примете. В подозрении находились также Сокольцев, Чащин, Карасев все и другие, за кем числились в прошлом побеги. Однако лето, прошло благополучно, и начальство опять вздохнуло свободно: в конце августа, конечно, уж никто не вздумает бежать. К тому же завернули внезапно холода.
В одно из последних чисел августа, под вечер, я и Башуров совершенно неожиданно вызваны были в контору. Шестиглазый, увидав нас, просиял как солнце.
– Ну-с, позвольте вас поздравить, господа, – сказал он, торжественно поднимаясь с места, и это странное предисловие сдавило мне сердце не столько радостным, сколько болезненным предчувствием, – позвольте поздравить со свободой… Только что получилась почта с приказом. Вот читайте. К Валерьяну Башурову применен манифест, по которому он немедленно переводится в разряд ссыльнопоселенцев… Ну, а что касается вас, – обратился Лучезаров ко мне, улыбаясь, – то вы не могли, конечно, попасть сразу на поселение, но вы теперь же отправляетесь в вольную команду.
И Лучезаров торжествующим взором оглядывал меня, как бы стараясь прочесть на моем лице выражение радостного волнения. По-видимому, он немало удивлен был, услышав из моих уст один только холодный вопрос:
– Отправляюсь?.. Куда же это я отправляюсь?
– Да, я и забыл, то есть не успел сказать вам, – отвечал капитан, несколько нахмуриваясь, – признано неудобным оставить вас при этой же тюрьме в вольной команде… Были, знаете, разные соображения… Так что вы переводитесь в Кадаинский рудник.[41 - В сентябре 1893 г. Якубович, после девяти лет заключения, был выпущен в вольную команду в Кадаинский рудник. В 1895 г. вышел на поселение в г. Курган.]
– Скоро ли мы будем отправлены? – полюбопытствовал Башуров.
– Это будет зависеть от того, когда придет сретенский конвой. Во всяком случае, с завтрашнего же дня вы освобождаетесь от каторжных работ.
Раскланявшись с бравым капитаном, мы отправились в тюрьму. Здесь с быстротой молнии разнеслось известие о нашем освобождении и арестанты с радостными улыбками то и дело подходили к нам с поздравлениями и добрыми пожеланиями.
В ожидании прихода сретенского конвоя нам пришлось, однако, прожить в Шелайской тюрьме еще целый месяц, и за этот последний месяц произошло столько важных событий, что в другое время их могло бы хватить на. целый год. Нельзя, впрочем, не принять здесь и того во внимание, что теперь мы с удвоенным любопытством приглядывались к своим сожителям, не без сожаления и грусти помышляя о том, что доживаем, в их обществе последние дни, и потому все, что происходило вокруг, врезывалось в память с удвоенной силой. В отношениях кобылки ко мне и к Башурову также чувствовалась какая-то небывалая мягкость, почти что любовность: на лицах самых суровых, самых неразговорчивых в прежнее время субъектов при встречах с нами неизменно появлялась теперь приветливая улыбка, шаги сами собой замедлялись, язык обнаруживал склонность к излияниям чувств… "Ученики" особенно искренно жалели о нашем отъезде, так как теперь в лице Штейнгарта на всю тюрьму оставался один только учитель; Луньков не уставал засыпать меня всевозможными вопросами, усиленно стремясь набраться за остающиеся дни всякой книжной премудрости.
В самом непродолжительном времени ожидалось между тем прибытие губернатора, и в тюрьме все опять волновалось, суетилось, скреблось, чистилось, приводилось в порядок. Был вечер последнего августовского дня. После проверки между Луньковым и Сохатым произошло обычное столкновение. Первый болтал без умолку, философствуя на ту тему, что будь он на воле грамотным, как теперь, ни за что бы не попал он в каторгу, "как иные прочие храпы и глоты". Сохатый ничего не говорил, он то и дело встречал насмешливым фырканьем хвастливые речи соперника. Это наконец раздражило Лунькова, и он обратился к Сохатому:
– Чего ты там фыркаешь, вечный ты тюремный житель?
– Кто? Это я-то вечный тюремный житель? – поднялся Сохатый с нар.
– Вестимо, ты! Ты об одном ведь и тужишь только, что двух аль трех жизней в тюрьме провести не можешь.
– Осел! Да я, может, захочу – завтра же с тюрьмой распрощаюсь!
– После дождичка в четверг, а завтра еще суббота только. Гремел ты когда-то Сохатым, а нынче гремишь, как у меня пустое брюхо гремит. Ну и выходит, что вечный ты тюремный житель!
– Повтори, трепач, что ты сказал!
– То и сказал – вечный тюремный житель, кухонный костогрыз!