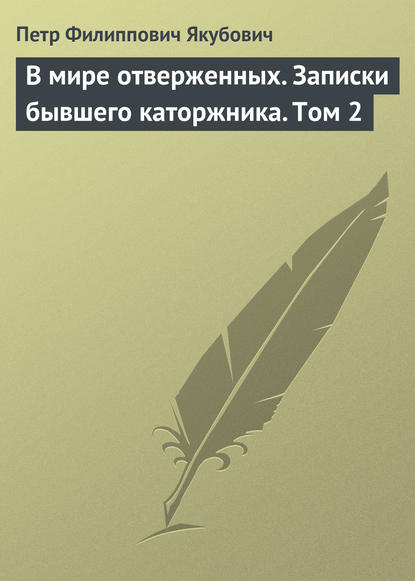По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Батюшка начальник, не все жалобились, не все!.. Жаль нам тебя… Хуже теперя нам будет, много хуже, батюшка… Роптали, вестимо, роптали, да ведь по глупости, батюшка! Кто же в каторге, скажи ты сам, позволит жить как на воле? Можно ли вовсе без строгостев? А ты вот что ответь, батюшка начальник: сказывают, ты в Алгачи переводишься? Так возьми и меня туды-ка с собой! Возьми, родимый!
И старик со слезами снова бросился Лучезарову в ноги, ловя фалды его шинели и целуя их.
– И меня также, господин начальник!
– И меня!
– И меня! – грянул из рядов десяток-другой умиленных голосов.
Лучезаров был ошеломлен: он не ожидал ничего подобного. Это была настоящая овация, устроенная экспромтом, без всяких предварительных сговоров и подготовок, вытекшая, казалось, из искреннего, непосредственного чувства простых русских сердец… Слезы заблестели на его глазах; от волнения он не мог в течение нескольких мгновений слова выговорить.
– Как! И ты, Луньков, просишься? И ты, Ногайцев? Даже и ты, Сокольцев?
– И мы, и мы!
– Не хотим покидать вас, господин начальник! – грянуло еще большее число голосов.
– За что же это, братцы, за что? – лепетал растроганный капитан. – К сожалению, к великому моему сожалению, я, кажется, не могу исполнить вашей просьбы. Я, кажется, совсем ухожу… А впрочем, я еще подумаю, я дам вам ответ.
И, с высоко поднятой головой, он поторопился выбежать за ворота тюрьмы.
Тогда все опять заголосило, зашумело. Раздались насмешливые восклицания по адресу тех, кто просился.
– Мало вас по сусалам-то били? Еще захотелось?
– Ироды! Холуи!
Мимо меня прошел Сокольцев.
– Не понимаешь ты, братец, политики, – объяснял он кому-то с обычной своей бархатной усмешкой, – да ежели мне, можно сказать, осточертела здешняя тюрьма? Ежели я никаких данных не вижу, хотя бы и новые в ней порядки укоренились? А что касаемо, например, капитана, так по мне хоть сейчас душа из его вон!
На другой же день после этого события в Шелай пришла новая партия в сорок человек. Приведший ее конвой, отдохнув сутки, должен был взять с собою "обратников", то есть меня с Башуровым и других окончивших свои каторжные сроки арестантов. Из тюрьмы уходил вместе с нами один только Оська Непомнящий; но из вольной команды, в числе других пяти-шести человек, уходили: отравленный прошлым летом юхоревской шайкой Китаев, бывший некоторое время моим учеником татарин Равилов и некий Павел Николаев, добродушный старикашка, каждое лето живший в качестве сторожа арестантских огородов в горной светличке и там служивший предметом постоянных шуток и острот не только кобылки, но и самого Монахова.
Наступил, таким образом, последний день пребывания моего в Шелайской тюрьме; день этот пришелся в воскресенье. Новая партия принята была почти без обыска, и в тот же вечер в тюрьме началась такая отчаянная картежь, какой у нас никогда еще не было. Поговаривали, что кое-кто спустил уже казенные вещи… На другой день с раннего утра тюрьмы невозможно было узнать: в камерах, невообразимо загрязненных, стоял настоящий содом, громко распевались песни, слышалась кабацкая ругань; местами виднелись пьяные…
– Вот и кончилась "образцовая" Шелайская тюрьма, – с улыбкой подошел ко мне в коридоре Штейнгарт, – теперь царство шпаны начинается… Пойдемте-ка отсюда на двор, тут дышать просто невмоготу. А не странно ли, Иван Николаевич, что переворот этот как раз перед вашим уходом случился? Однако что это значит – вы как будто не особенно радуетесь свободе?
У меня действительно не слишком было радостно на душе. Как сказочный колодник, привыкший к своим цепям, я с грустью думал о том, что скоро навсегда покину эту тюрьму, где столько пережил и выстрадал. Мне казалось, что в этих стенах я хороню свою молодость с ее одинокими, гордыми мечтами, а также и то, что радость свободы пришла ко мне слишком поздно, когда в душе появились уже усталость и надтреснутость… И эту позднюю, как мне думалось, радость отравляло еще сознание, что я ухожу на волю, оставляя в тюрьме товарища!
Я расспрашивал Штейнгарта об его родне, о матери, об ее возрасте. Он безнадежно махнул рукой.
– Ей уже семьдесят два года, Иван Николаевич, и в самое последнее время силы начали, по-видимому, быстро ее оставлять. И знаете, какая странная фантазия пришла ей недавно в голову? Боюсь, что вам, как незнакомому с еврейскими религиозными понятиями, фантазия эта может показаться дикой и, пожалуй, даже… некрасивой, но меня она до глубины души, до слез трогает… Дело вот в чем… Я как-то писал своей старушке, что арестанты время от времени получают от горного ведомства за работу в руднике деньги. Помните, ведь и мы с вами уже несколько раз получали? Я заработал что-то около пяти рублей… Ну так вот по этому поводу она и пишет мне; "Видеться нам уж не удастся, я знаю, что скоро умру; но когда ты заработаешь рублей пятнадцать, пришли мне эти деньги, чтоб на них я могла купить себе саван. Тогда я буду думать, что не чужая, а твоя рука закроет мне глаза…"
Что-то сдавило мне горло; я почувствовал, как холодная струя пробежала по телу…
Вдруг где-то за больницей раздался ужасный шум и треск – не то грянуло одновременно несколько ружейных выстрелов, не то произошло землетрясение. Инстинктивно остановившись, мы с Штейнгартом молча переглянулись: "Уж не опять ли побег?" Толпы арестантов с тем же недоумением и любопытством бежали через двор к месту происшествия. Встретив по дороге Башурова, поспешили и мы туда же.
Моментально распахнулись ворота, и в них опрометью влетело, с ружьями наперевес, десятка полтора казаков. Любопытная картина представилась нашим глазам: угол, где сходились две стены каменной ограды, от неизвестной причины развалился, и образовалась огромная брешь, через которую не только видно было внетюремное пространство, но при желании можно было и пролезть свободно… За стеною тоже виднелись уже перепуганные казаки и надзиратели. Это было то самое место, где Сохатый с товарищами совершил свой недавний побег.
– Ну, братцы, и хваленая же Шелайская тюрьма… Телячьи ведь загородки прочнее делаются? Ха-ха-ха! – смеялись арестанты, для которых это событие было настоящим праздником.
– Да разве вы не слышали – ведь эту стену надзирательские жены строили?
– Нет, чего здря говорить, ребята! Стена была как стена, а только когда Сохатый да Садык сели на нее верхами, так она чичас и осела, значит. Потому надо ведь этаких двух жеребцов выдержать!
За стеной между тем расхаживал есаул и громко кричал:
– И это называется постройкой, на которую тысячи рублей шли?.. Безобразие!.. Что же теперь делать? Впредь до починки усиленный караул поставить?
Шестиглазого никто не видал. Своим отсутствием он выражал как бы полное презрение ко всему, что теперь происходило и могло еще произойти.
– Формальная ликвидация шестиглазовского прижима! – сказал Башуров, резюмируя общее настроение. Разговаривая и смеясь, вернулись мы на обычное место наших прогулок перед фасадом тюрьмы.
На кухонном крыльце, с котлом в руках, показался Карпушка Липатов.
– Ур-ра, Иван Миколаич! – проревел он во все горло, увидав меня с товарищами, – барранину ем!..
И он высоко поднял в руке свой котел, от которого так и валил во все стороны заманчивый пар. С лихо заломленной набок шапкой, с самодовольной улыбкой во всю рожу, с торжественно приподнятой кверху красной бороденкой и комично широко расставленными ногами, живописен был в эту минуту Карпушка Липатов, стоявший в ярком солнечном освещении! Он казался нам воплощенным символом новых порядков, водворявшихся на развалинах "образцовой" Шелаевской тюрьмы, а котел с бараниной в его руках – победным трофеем шпаны, воссевшей на месте святе…
Кобылка в пути[21 - В настоящем очерке описывается часть этапного перехода из Шелайского (Акатуйского) рудника в Кадаинский. Здесь я оставляю на время мемуарную форму повествования. (Прим. автора.)]
В сумерки холодного октябрьского дня сретенский этап растворял свои ворота для маленькой обратной партии, шедшей на поселенке из рудников Нерчинской каторги. Такие арестанты сами себя называют "вольными", да и конвой относится к ним снисходительнее, нежели к каторжным, и ведет не закованных в кандалы. В партии был, впрочем, и кандальный – каторжанин, еще не окончивший своего срока, но переводившийся вместе с семьею из одного рудника в другой.
Ефрейтор пересчитал арестантов, впустил их со всем дорожным скарбом, котомками, узлами и котелками в узкий, темный коридор тюрьмы, где слабо тлели мокрые щепки под плитой, и молча ткнул пальцем в дверь направо, за которой скрывалась назначенная для них камера. По привычке арестанты тотчас же ринулись туда как угорелые, толкая друг друга, крича, переругиваясь, спеша занять лучшие места на нарах, хотя особенной нужды в такой поспешности и не представлялось, так как мест могло бы хватить и для вдвое большего количества людей.
– Сюда, Оська Непомнящий, сюда!.. – ревел плотный рыжебородый мужчина, стоя во весь рост на нарах у окна и с торжеством махая шапкой. – Сюда, товарищи!
Грузно ковыляющей походкой торопился на этот зов маленький неуклюжий человечек, по-видимому большой флегматик по природе, но на этот раз также возбужденный и торжествующий. За ним бежало к окну еще человек пять молодых, здоровых ребят. Вся эта группа, очевидно состоявшая в дорожном товариществе и игравшая руководящую роль в партии, заняла несколько сажен лучших мест на нарах. Худшие, более удаленные от света, места заняли старики и семейные. Ближе всех к дверям очутился единственный кандальный в партии, еврей неопределенных лет, худой, сухопарый, с жидкой козлиной бородой и пугливо бегающими серыми глазками. Его сопровождала многочисленная семья: жена, маленькая, худенькая женщина, совсем больная, еле передвигающая ноги, но с явственными еще следами оригинальной и симпатичной красоты. На руках она держала двух маленьких девочек – одну с рыжими, как огонь, курчавыми волосенками, с ярко блестевшими от мороза щечками, весело на все кругом улыбавшуюся, другую, напротив, смуглую, как цыганочка, испуганно глядевшую по сторонам большими темными, как бы с удивлением раскрытыми глазами. За юбку матери цеплялась третья девочка постарше, с серьезным, не по-детски озабоченным личиком; четвертая тащила мешок больше себя самой. Отец и десятилетний мальчуган, очень на него похожий, с таким же длинным, острым носом и серыми глазами, волокли прочий семейный скарб.
– Шюда, шюда, Ента! – с характерным пришепетыванием говорил глава семейства, складывая вещи на пустые нары у самых дверей. – Абрашка, беги скорей на двор, погляди, не забыли ль еще чего.
Ента в изнеможении опустилась на нары с обеими девочками. Рыженькая сейчас же весело соскочила с ее рук и принялась помогать старшим сестрам в разборке вещей; черненькая, напротив, еще крепче прижалась к матери.
– Ну что, Енталэ? Как себя чувствуешь, душа моя? – пониженным голосом спросил муж, с нежностью и тревогой заглядывая жене в глаза. Последняя ничего не отвечала и только нервно гладила по головке прильнувшую к ней любимицу дочь.
– Я чайку сейчас заварю… Погреемся! Хася, Брухэ, Сурэлэ! Помогайте матери, я за водой побегу.
– Ну, а я, господа, куда же пристроюсь? – громко проговорил в это время последним вошедший в камеру старичок благообразной и почтенной наружности, с шутовским несколько выражением умных, даже плутоватых серых глаз. – Мне-то, старику, под нары, что ль, лезть?
– Старичку Николаеву наше почтение! К нам пожалуйте, – откликнулся ему от окна рыжебородый мужчина из компании молодых Иванов.
– Иди к нам, старый аспид! – крикнул оттуда еще кто-то.
– Вот уж и ругаетесь!.. Разве этак возможно, господа? Я к вам с добром, а вы эвона в какие глупости углыбляетесь!
– А не то к нам ступай, Николаев, места хватит, – послышался вкрадчивый голос из другого угла. Голос этот принадлежал мужчине уже пожилых лет, коренастому, бледному, с неприятным выражением маслянистых глаз и всего лица, недоброго, хотя всегда подернутого приторно сладкой улыбкой.
– К нам, Павел Николаевич, к нам милости просим, – подтвердила и женщина, сидевшая с ним рядом, – вы – старики, вам с семейными-то спокойнее будет.
И старик со слезами снова бросился Лучезарову в ноги, ловя фалды его шинели и целуя их.
– И меня также, господин начальник!
– И меня!
– И меня! – грянул из рядов десяток-другой умиленных голосов.
Лучезаров был ошеломлен: он не ожидал ничего подобного. Это была настоящая овация, устроенная экспромтом, без всяких предварительных сговоров и подготовок, вытекшая, казалось, из искреннего, непосредственного чувства простых русских сердец… Слезы заблестели на его глазах; от волнения он не мог в течение нескольких мгновений слова выговорить.
– Как! И ты, Луньков, просишься? И ты, Ногайцев? Даже и ты, Сокольцев?
– И мы, и мы!
– Не хотим покидать вас, господин начальник! – грянуло еще большее число голосов.
– За что же это, братцы, за что? – лепетал растроганный капитан. – К сожалению, к великому моему сожалению, я, кажется, не могу исполнить вашей просьбы. Я, кажется, совсем ухожу… А впрочем, я еще подумаю, я дам вам ответ.
И, с высоко поднятой головой, он поторопился выбежать за ворота тюрьмы.
Тогда все опять заголосило, зашумело. Раздались насмешливые восклицания по адресу тех, кто просился.
– Мало вас по сусалам-то били? Еще захотелось?
– Ироды! Холуи!
Мимо меня прошел Сокольцев.
– Не понимаешь ты, братец, политики, – объяснял он кому-то с обычной своей бархатной усмешкой, – да ежели мне, можно сказать, осточертела здешняя тюрьма? Ежели я никаких данных не вижу, хотя бы и новые в ней порядки укоренились? А что касаемо, например, капитана, так по мне хоть сейчас душа из его вон!
На другой же день после этого события в Шелай пришла новая партия в сорок человек. Приведший ее конвой, отдохнув сутки, должен был взять с собою "обратников", то есть меня с Башуровым и других окончивших свои каторжные сроки арестантов. Из тюрьмы уходил вместе с нами один только Оська Непомнящий; но из вольной команды, в числе других пяти-шести человек, уходили: отравленный прошлым летом юхоревской шайкой Китаев, бывший некоторое время моим учеником татарин Равилов и некий Павел Николаев, добродушный старикашка, каждое лето живший в качестве сторожа арестантских огородов в горной светличке и там служивший предметом постоянных шуток и острот не только кобылки, но и самого Монахова.
Наступил, таким образом, последний день пребывания моего в Шелайской тюрьме; день этот пришелся в воскресенье. Новая партия принята была почти без обыска, и в тот же вечер в тюрьме началась такая отчаянная картежь, какой у нас никогда еще не было. Поговаривали, что кое-кто спустил уже казенные вещи… На другой день с раннего утра тюрьмы невозможно было узнать: в камерах, невообразимо загрязненных, стоял настоящий содом, громко распевались песни, слышалась кабацкая ругань; местами виднелись пьяные…
– Вот и кончилась "образцовая" Шелайская тюрьма, – с улыбкой подошел ко мне в коридоре Штейнгарт, – теперь царство шпаны начинается… Пойдемте-ка отсюда на двор, тут дышать просто невмоготу. А не странно ли, Иван Николаевич, что переворот этот как раз перед вашим уходом случился? Однако что это значит – вы как будто не особенно радуетесь свободе?
У меня действительно не слишком было радостно на душе. Как сказочный колодник, привыкший к своим цепям, я с грустью думал о том, что скоро навсегда покину эту тюрьму, где столько пережил и выстрадал. Мне казалось, что в этих стенах я хороню свою молодость с ее одинокими, гордыми мечтами, а также и то, что радость свободы пришла ко мне слишком поздно, когда в душе появились уже усталость и надтреснутость… И эту позднюю, как мне думалось, радость отравляло еще сознание, что я ухожу на волю, оставляя в тюрьме товарища!
Я расспрашивал Штейнгарта об его родне, о матери, об ее возрасте. Он безнадежно махнул рукой.
– Ей уже семьдесят два года, Иван Николаевич, и в самое последнее время силы начали, по-видимому, быстро ее оставлять. И знаете, какая странная фантазия пришла ей недавно в голову? Боюсь, что вам, как незнакомому с еврейскими религиозными понятиями, фантазия эта может показаться дикой и, пожалуй, даже… некрасивой, но меня она до глубины души, до слез трогает… Дело вот в чем… Я как-то писал своей старушке, что арестанты время от времени получают от горного ведомства за работу в руднике деньги. Помните, ведь и мы с вами уже несколько раз получали? Я заработал что-то около пяти рублей… Ну так вот по этому поводу она и пишет мне; "Видеться нам уж не удастся, я знаю, что скоро умру; но когда ты заработаешь рублей пятнадцать, пришли мне эти деньги, чтоб на них я могла купить себе саван. Тогда я буду думать, что не чужая, а твоя рука закроет мне глаза…"
Что-то сдавило мне горло; я почувствовал, как холодная струя пробежала по телу…
Вдруг где-то за больницей раздался ужасный шум и треск – не то грянуло одновременно несколько ружейных выстрелов, не то произошло землетрясение. Инстинктивно остановившись, мы с Штейнгартом молча переглянулись: "Уж не опять ли побег?" Толпы арестантов с тем же недоумением и любопытством бежали через двор к месту происшествия. Встретив по дороге Башурова, поспешили и мы туда же.
Моментально распахнулись ворота, и в них опрометью влетело, с ружьями наперевес, десятка полтора казаков. Любопытная картина представилась нашим глазам: угол, где сходились две стены каменной ограды, от неизвестной причины развалился, и образовалась огромная брешь, через которую не только видно было внетюремное пространство, но при желании можно было и пролезть свободно… За стеною тоже виднелись уже перепуганные казаки и надзиратели. Это было то самое место, где Сохатый с товарищами совершил свой недавний побег.
– Ну, братцы, и хваленая же Шелайская тюрьма… Телячьи ведь загородки прочнее делаются? Ха-ха-ха! – смеялись арестанты, для которых это событие было настоящим праздником.
– Да разве вы не слышали – ведь эту стену надзирательские жены строили?
– Нет, чего здря говорить, ребята! Стена была как стена, а только когда Сохатый да Садык сели на нее верхами, так она чичас и осела, значит. Потому надо ведь этаких двух жеребцов выдержать!
За стеной между тем расхаживал есаул и громко кричал:
– И это называется постройкой, на которую тысячи рублей шли?.. Безобразие!.. Что же теперь делать? Впредь до починки усиленный караул поставить?
Шестиглазого никто не видал. Своим отсутствием он выражал как бы полное презрение ко всему, что теперь происходило и могло еще произойти.
– Формальная ликвидация шестиглазовского прижима! – сказал Башуров, резюмируя общее настроение. Разговаривая и смеясь, вернулись мы на обычное место наших прогулок перед фасадом тюрьмы.
На кухонном крыльце, с котлом в руках, показался Карпушка Липатов.
– Ур-ра, Иван Миколаич! – проревел он во все горло, увидав меня с товарищами, – барранину ем!..
И он высоко поднял в руке свой котел, от которого так и валил во все стороны заманчивый пар. С лихо заломленной набок шапкой, с самодовольной улыбкой во всю рожу, с торжественно приподнятой кверху красной бороденкой и комично широко расставленными ногами, живописен был в эту минуту Карпушка Липатов, стоявший в ярком солнечном освещении! Он казался нам воплощенным символом новых порядков, водворявшихся на развалинах "образцовой" Шелаевской тюрьмы, а котел с бараниной в его руках – победным трофеем шпаны, воссевшей на месте святе…
Кобылка в пути[21 - В настоящем очерке описывается часть этапного перехода из Шелайского (Акатуйского) рудника в Кадаинский. Здесь я оставляю на время мемуарную форму повествования. (Прим. автора.)]
В сумерки холодного октябрьского дня сретенский этап растворял свои ворота для маленькой обратной партии, шедшей на поселенке из рудников Нерчинской каторги. Такие арестанты сами себя называют "вольными", да и конвой относится к ним снисходительнее, нежели к каторжным, и ведет не закованных в кандалы. В партии был, впрочем, и кандальный – каторжанин, еще не окончивший своего срока, но переводившийся вместе с семьею из одного рудника в другой.
Ефрейтор пересчитал арестантов, впустил их со всем дорожным скарбом, котомками, узлами и котелками в узкий, темный коридор тюрьмы, где слабо тлели мокрые щепки под плитой, и молча ткнул пальцем в дверь направо, за которой скрывалась назначенная для них камера. По привычке арестанты тотчас же ринулись туда как угорелые, толкая друг друга, крича, переругиваясь, спеша занять лучшие места на нарах, хотя особенной нужды в такой поспешности и не представлялось, так как мест могло бы хватить и для вдвое большего количества людей.
– Сюда, Оська Непомнящий, сюда!.. – ревел плотный рыжебородый мужчина, стоя во весь рост на нарах у окна и с торжеством махая шапкой. – Сюда, товарищи!
Грузно ковыляющей походкой торопился на этот зов маленький неуклюжий человечек, по-видимому большой флегматик по природе, но на этот раз также возбужденный и торжествующий. За ним бежало к окну еще человек пять молодых, здоровых ребят. Вся эта группа, очевидно состоявшая в дорожном товариществе и игравшая руководящую роль в партии, заняла несколько сажен лучших мест на нарах. Худшие, более удаленные от света, места заняли старики и семейные. Ближе всех к дверям очутился единственный кандальный в партии, еврей неопределенных лет, худой, сухопарый, с жидкой козлиной бородой и пугливо бегающими серыми глазками. Его сопровождала многочисленная семья: жена, маленькая, худенькая женщина, совсем больная, еле передвигающая ноги, но с явственными еще следами оригинальной и симпатичной красоты. На руках она держала двух маленьких девочек – одну с рыжими, как огонь, курчавыми волосенками, с ярко блестевшими от мороза щечками, весело на все кругом улыбавшуюся, другую, напротив, смуглую, как цыганочка, испуганно глядевшую по сторонам большими темными, как бы с удивлением раскрытыми глазами. За юбку матери цеплялась третья девочка постарше, с серьезным, не по-детски озабоченным личиком; четвертая тащила мешок больше себя самой. Отец и десятилетний мальчуган, очень на него похожий, с таким же длинным, острым носом и серыми глазами, волокли прочий семейный скарб.
– Шюда, шюда, Ента! – с характерным пришепетыванием говорил глава семейства, складывая вещи на пустые нары у самых дверей. – Абрашка, беги скорей на двор, погляди, не забыли ль еще чего.
Ента в изнеможении опустилась на нары с обеими девочками. Рыженькая сейчас же весело соскочила с ее рук и принялась помогать старшим сестрам в разборке вещей; черненькая, напротив, еще крепче прижалась к матери.
– Ну что, Енталэ? Как себя чувствуешь, душа моя? – пониженным голосом спросил муж, с нежностью и тревогой заглядывая жене в глаза. Последняя ничего не отвечала и только нервно гладила по головке прильнувшую к ней любимицу дочь.
– Я чайку сейчас заварю… Погреемся! Хася, Брухэ, Сурэлэ! Помогайте матери, я за водой побегу.
– Ну, а я, господа, куда же пристроюсь? – громко проговорил в это время последним вошедший в камеру старичок благообразной и почтенной наружности, с шутовским несколько выражением умных, даже плутоватых серых глаз. – Мне-то, старику, под нары, что ль, лезть?
– Старичку Николаеву наше почтение! К нам пожалуйте, – откликнулся ему от окна рыжебородый мужчина из компании молодых Иванов.
– Иди к нам, старый аспид! – крикнул оттуда еще кто-то.
– Вот уж и ругаетесь!.. Разве этак возможно, господа? Я к вам с добром, а вы эвона в какие глупости углыбляетесь!
– А не то к нам ступай, Николаев, места хватит, – послышался вкрадчивый голос из другого угла. Голос этот принадлежал мужчине уже пожилых лет, коренастому, бледному, с неприятным выражением маслянистых глаз и всего лица, недоброго, хотя всегда подернутого приторно сладкой улыбкой.
– К нам, Павел Николаевич, к нам милости просим, – подтвердила и женщина, сидевшая с ним рядом, – вы – старики, вам с семейными-то спокойнее будет.