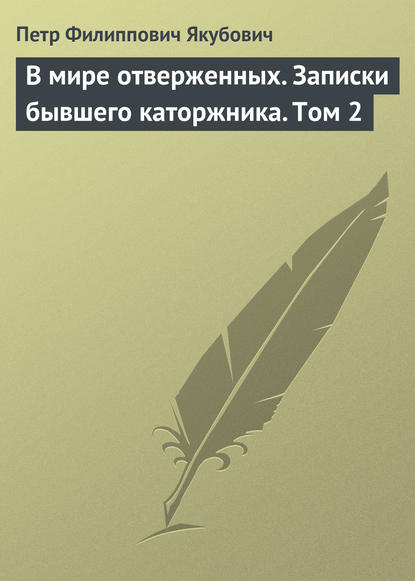По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сохатый окинул Лунькова молчаливым, убийственно презрительным взглядом и вдруг повернулся ко мне:
– А вы, Иван Николаевич, такое же понятие обо мне держите, как и ваш любимый ученик?
Получив от меня обычно уклончивый в таких случаях ответ, он ядовито засмеялся и, замолчав, пошел спать в свой угол. Луньков долго еще с победоносным видом ораторствовал, но Сохатый не обращал уже на его слова никакого внимания. Остальные арестанты во время этого спора хранили безмолвный нейтралитет, и один только Годунов раза два хихикнул двусмысленно, очевидно сочувствуя Лунькову. Вскоре все полегли спать, заснул и я также.
Когда наутро, еще в совершенной темноте, надзиратель отворил камеры и выгнал арестантов в коридор на поверку, я, разоспавшись, поленился выйти вместе со всеми и, продолжая лежать с закрытыми глазами, слышал только сквозь сон оживленные восклицания кобылки, передававшей друг другу сенсационную новость: в ночь выпал глубокий снег… Никто не запомнил такого диковинного случая, чтоб снег выпадал на первое сентября, и все гадали о том, к добру это или к худу. Под этот говор я и заснул опять крепким сном.
Вдруг меня разбудил тревожный шум, крики… Кто-то коснулся меня, окликнул. Я поднял голову – было уже совсем светло – передо мной стояли Башуров и Штейнгарт.
– Слышали?
– Снег? Слышал…
– Какое снег! Выстрел, побег!
– Побег?
– На двор! Все на двор! – нечеловеческим голосом проревел кто-то, промчавшись по коридору. Кобылка давно уже была, очевидно, там, так как камеры оставались пусты. Одевшись второпях, пошел и я с товарищами.
– Кто бежал? – спрашивали мы встречавшихся по дороге взволнованных арестантов.
Но никто ничего не знал.
– Чащин бежал! – сказал кто-то, не совсем, впрочем, уверенно.
– Черти, дьяволы, да когда, каким путем?
– Ну, о пути-то ты его уже самого спроси. Жаль, с тобой не посоветовался!
– Надо думать, вовсе сею минуту бежал, потому во время поверки я его видел.
– Четверти часа не прошло, как выстрел слышали. Там, за больницей… Через ограду, надо быть, махнули!
– Вот так фунт!..
От яркого молочно-белого снега, устлавшего весь двор, лица арестантов казались необыкновенно бледными; но и внутренне, по-видимому, все страшно волновались; многие тряслись точно в лихорадке.
По рядам еще раз пронеслась фамилия Чащина.
– Ау! Тут я, чего вам занадобился Чащин, воронье вы безмозглое?
– Ах, шут его дери, да он здесь! Кто же набрякал, будто Чащин бежал?
– Может, и вовсе никто не бежал, а сами на себя петлю накидывают, – раздался чей-то скептический голос.
– Знамо, кобылка дурная…
Надзиратели между тем лезли вон из кожи, летая как угорелые по выстроенным шеренгам и лихорадочно пересчитывая арестантов. Но свести концы с концами им никак не удавалось: арестантов оказывалось, как это случалось, даже больше, чем нужно. Ворота поспешно распахнулись, и в них не вошел, а влетел красный как рак Лучезаров, впопыхах одевшийся в какую-то кургузую полинялую домашнюю куртку, которая лишала его обычной представительности и величия. Растерявшийся дежурный позабыл даже скомандовать: "Смирно!! Шапки долой!" – и кобылка стояла в шапках, смущенная, недоумевающая. Но бравому капитану было в эту минуту не до заботы о внешнем великолепии; не обратив никакого внимания на нарушение порядка, он быстрыми шагами кинулся к арестантскому строю.
– Ну что? – на бегу спросил он дежурного. – Кто? Каким образом?
– Ничего пока не известно, господин начальник, отрапортовал один из надзирателей, приложив к козырьку руку.
– Дурачье! – отрезал капитан и принялся сам пересчитывать шеренги.
– Двоих недостает, добавил он громогласно, бросив уничтожающий взгляд в сторону надзирателей, и вслед за тем гаркнул на арестантов:
– По камерам! Марш в одну минуту!
Все кинулись в беспорядке по своим номерам. Мне тотчас же бросилось в глаза отсутствие у нас Сохатого.
– А где же, господа, Петин?
– И в сам-деле, ребята, где же Сохатый? – переглянулись между собой арестанты. – Уж не он ли?..
– Ну да, ждите! – пренебрежительно возразил Луньков. – Я сейчас только видел его. Не таковский, не бежит!
– Где ты его видел? Когда?
– На поверке он рядом со мной стоял, да и сейчас, кажись…
– Ну разве что на поверке, а сейчас на дворе – это ты врешь, его не было, – в раздумье заметил Годунов.
– Не было?!
– Смирна!.
Дверь отомкнулась – и в камеру вошел раздраженный, как и прежде, Лучезаров с толпой бледных, смущенных надзирателей.
– Раз, два, три… Ну так и есть: здесь тоже одного недостает – значит, уж третьего! – почти взвизгнул он.
Надзиратели молчали, потрясенные, уничтоженные… – Кого у вас недостает, говорите? Староста, отвечай! У нас были и камерный и общетюремный староста, но и тот и другой мялись в нерешительности.
– Петина нет, господин начальник, – убитым голосом пролепетал наконец Проня.
– Петина? Гм! гм! Так и следовало, конечно, предполагать.
И Шестиглазый поспешил вон. Выходя последним из камеры, Проня хлопнул себя рукой по бедру и сказал довольно громко:
– Прямо сон наяву, да и только!..
– Кто бы мог, в сам-деле, подумать, ребята, на Сохатого, а? – заметил Чирок, когда мы снова очутились на замке.
– А ты как полагал об Сохатом? Его, брат, голыми руками тоже не щупай! – заговорил вдруг Годунов: и эти слова сразу дали тон общественному мнению. – Я сам не раз говорил, что у него дурная башка, – продолжал Годунов, обращаясь для чего-то в мою сторону и как бы в чем оправдываясь, – в глаза ему даже говаривал, потому что я люблю матку-правду резать. Я и теперь скажу то же самое: в некоторых смыслах у него, точно, дурная голова… Но кто из нас, однако, святой или кто умный? Про Сохатого же надо сказать, что он никому никогда вреда не причинял, а если кому вредил, так самому же себе. Ну, а что касательно отваги, арестантского, что называется, духу, ну так в этом Сохатый всегда может поддержать свою славу!
– Это чего и говорить, – согласился Чирок.
– Я всегда знал, – добавил Годунов, – что сидеть, как иные-прочие, в тюрьме он не станет! Ну, подождал, конечно, своей точки, но вот и дождался.
– А вы, Иван Николаевич, такое же понятие обо мне держите, как и ваш любимый ученик?
Получив от меня обычно уклончивый в таких случаях ответ, он ядовито засмеялся и, замолчав, пошел спать в свой угол. Луньков долго еще с победоносным видом ораторствовал, но Сохатый не обращал уже на его слова никакого внимания. Остальные арестанты во время этого спора хранили безмолвный нейтралитет, и один только Годунов раза два хихикнул двусмысленно, очевидно сочувствуя Лунькову. Вскоре все полегли спать, заснул и я также.
Когда наутро, еще в совершенной темноте, надзиратель отворил камеры и выгнал арестантов в коридор на поверку, я, разоспавшись, поленился выйти вместе со всеми и, продолжая лежать с закрытыми глазами, слышал только сквозь сон оживленные восклицания кобылки, передававшей друг другу сенсационную новость: в ночь выпал глубокий снег… Никто не запомнил такого диковинного случая, чтоб снег выпадал на первое сентября, и все гадали о том, к добру это или к худу. Под этот говор я и заснул опять крепким сном.
Вдруг меня разбудил тревожный шум, крики… Кто-то коснулся меня, окликнул. Я поднял голову – было уже совсем светло – передо мной стояли Башуров и Штейнгарт.
– Слышали?
– Снег? Слышал…
– Какое снег! Выстрел, побег!
– Побег?
– На двор! Все на двор! – нечеловеческим голосом проревел кто-то, промчавшись по коридору. Кобылка давно уже была, очевидно, там, так как камеры оставались пусты. Одевшись второпях, пошел и я с товарищами.
– Кто бежал? – спрашивали мы встречавшихся по дороге взволнованных арестантов.
Но никто ничего не знал.
– Чащин бежал! – сказал кто-то, не совсем, впрочем, уверенно.
– Черти, дьяволы, да когда, каким путем?
– Ну, о пути-то ты его уже самого спроси. Жаль, с тобой не посоветовался!
– Надо думать, вовсе сею минуту бежал, потому во время поверки я его видел.
– Четверти часа не прошло, как выстрел слышали. Там, за больницей… Через ограду, надо быть, махнули!
– Вот так фунт!..
От яркого молочно-белого снега, устлавшего весь двор, лица арестантов казались необыкновенно бледными; но и внутренне, по-видимому, все страшно волновались; многие тряслись точно в лихорадке.
По рядам еще раз пронеслась фамилия Чащина.
– Ау! Тут я, чего вам занадобился Чащин, воронье вы безмозглое?
– Ах, шут его дери, да он здесь! Кто же набрякал, будто Чащин бежал?
– Может, и вовсе никто не бежал, а сами на себя петлю накидывают, – раздался чей-то скептический голос.
– Знамо, кобылка дурная…
Надзиратели между тем лезли вон из кожи, летая как угорелые по выстроенным шеренгам и лихорадочно пересчитывая арестантов. Но свести концы с концами им никак не удавалось: арестантов оказывалось, как это случалось, даже больше, чем нужно. Ворота поспешно распахнулись, и в них не вошел, а влетел красный как рак Лучезаров, впопыхах одевшийся в какую-то кургузую полинялую домашнюю куртку, которая лишала его обычной представительности и величия. Растерявшийся дежурный позабыл даже скомандовать: "Смирно!! Шапки долой!" – и кобылка стояла в шапках, смущенная, недоумевающая. Но бравому капитану было в эту минуту не до заботы о внешнем великолепии; не обратив никакого внимания на нарушение порядка, он быстрыми шагами кинулся к арестантскому строю.
– Ну что? – на бегу спросил он дежурного. – Кто? Каким образом?
– Ничего пока не известно, господин начальник, отрапортовал один из надзирателей, приложив к козырьку руку.
– Дурачье! – отрезал капитан и принялся сам пересчитывать шеренги.
– Двоих недостает, добавил он громогласно, бросив уничтожающий взгляд в сторону надзирателей, и вслед за тем гаркнул на арестантов:
– По камерам! Марш в одну минуту!
Все кинулись в беспорядке по своим номерам. Мне тотчас же бросилось в глаза отсутствие у нас Сохатого.
– А где же, господа, Петин?
– И в сам-деле, ребята, где же Сохатый? – переглянулись между собой арестанты. – Уж не он ли?..
– Ну да, ждите! – пренебрежительно возразил Луньков. – Я сейчас только видел его. Не таковский, не бежит!
– Где ты его видел? Когда?
– На поверке он рядом со мной стоял, да и сейчас, кажись…
– Ну разве что на поверке, а сейчас на дворе – это ты врешь, его не было, – в раздумье заметил Годунов.
– Не было?!
– Смирна!.
Дверь отомкнулась – и в камеру вошел раздраженный, как и прежде, Лучезаров с толпой бледных, смущенных надзирателей.
– Раз, два, три… Ну так и есть: здесь тоже одного недостает – значит, уж третьего! – почти взвизгнул он.
Надзиратели молчали, потрясенные, уничтоженные… – Кого у вас недостает, говорите? Староста, отвечай! У нас были и камерный и общетюремный староста, но и тот и другой мялись в нерешительности.
– Петина нет, господин начальник, – убитым голосом пролепетал наконец Проня.
– Петина? Гм! гм! Так и следовало, конечно, предполагать.
И Шестиглазый поспешил вон. Выходя последним из камеры, Проня хлопнул себя рукой по бедру и сказал довольно громко:
– Прямо сон наяву, да и только!..
– Кто бы мог, в сам-деле, подумать, ребята, на Сохатого, а? – заметил Чирок, когда мы снова очутились на замке.
– А ты как полагал об Сохатом? Его, брат, голыми руками тоже не щупай! – заговорил вдруг Годунов: и эти слова сразу дали тон общественному мнению. – Я сам не раз говорил, что у него дурная башка, – продолжал Годунов, обращаясь для чего-то в мою сторону и как бы в чем оправдываясь, – в глаза ему даже говаривал, потому что я люблю матку-правду резать. Я и теперь скажу то же самое: в некоторых смыслах у него, точно, дурная голова… Но кто из нас, однако, святой или кто умный? Про Сохатого же надо сказать, что он никому никогда вреда не причинял, а если кому вредил, так самому же себе. Ну, а что касательно отваги, арестантского, что называется, духу, ну так в этом Сохатый всегда может поддержать свою славу!
– Это чего и говорить, – согласился Чирок.
– Я всегда знал, – добавил Годунов, – что сидеть, как иные-прочие, в тюрьме он не станет! Ну, подождал, конечно, своей точки, но вот и дождался.