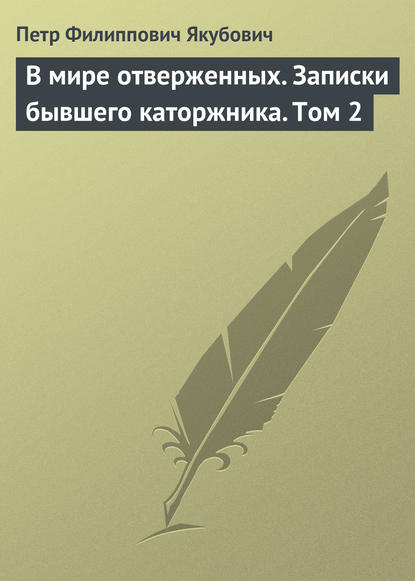По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но тут рассказчица прикусила внезапно язык, потому что Перминов показался опять в дверях, подозрительно оглядывая Николаева, который сидел рядом с женой, румяный и, видимо, взволнованный.
– Я прошу вот дедушку письмецо к Сашеньке написать, – поспешила она объявить мужу с деланной, заискивающей улыбкой.
Перминов принял тотчас же свой обычный медоточивый вид и начал просить Николаева сочинить письмо, не откладывая в долгий ящик. Старик не заставил себя уговаривать и, достав лист серой бумаги, перо и чернила и вооружившись огромными старомодными очками в черепаховой оправе, немедленно приступил к сочинительству. Сперва следовали обычные поклоны всей родне и знакомым, затем обычное же: "Посылаю вам, любезная дочь моя Сашенька, материнское свое благословение, которое может быть вам полезным до гробовой доски". Дальше расписывались яркими красками прелести и выгоды жизни в Забайкальской области и в заключение предлагался Сашеньке совет бросить неблагодарную родину и ехать к любящим родителям на новую, более счастливую жизнь.
Старуха все время заливалась слезами, пока писалось письмо, однако так и не посмела высказать какое-нибудь противоречие тому, что диктовал муж. Взгляд его зеленых глаз, казалось, усыплял в ней всякую мысль, подавлял всякое движение ее собственной воли. И Николаев не сомневался в том, что мечты ее уйти от этого человека так и останутся навсегда пустыми, несбыточными мечтами…
Только что заперли после вечерней поверки коридор, оставив на этот раз камеры отворенными, как кто-то прокричал зычным голосом, чтоб все сходились в одно место на выбор артельных чиновников. Арестанты повалили тотчас же в большую камеру, одни – движимые общественными инстинктами, другие – простым любопытством. В меньшей камере остались на месте только Боруховичи, Перминовы да сумасшедший Бова, неподвижно сидевший в своем углу в шапке и шубе, сучивший какую-то веревку и ворчавший себе под нос разные заклинания. Даже семидесятишестилетний Тимофеев с своим длинным табачным носом и клеймом на морщинистом лбу поплелся вместе с другими. А впереди всех неспешными шагами двигался в низко подпоясанной ремешком белой рубахе, со скрещенными на груди руками и несколько насмешливой улыбкой, старик Николаев.
– Ну что, не надумал, асмодей? – хлопнул его по плечу суетливый Китаев и, не дождавшись ответа, побежал вперед разыскивать Красноперова. Но Красноперов уже сам заявил о себе. Взобравшись на нары, он закричал к собравшейся толпе:
– Не будем терять, господа, времени! Что касается старосты, то мы все здесь смело можем уверить обратную партию, что лучше прежнего нашего старосты Свистунова желать нельзя. Да и выбирать больше некого.
– Как некого? Соколова можно выбрать, а не то Иванова, – послышался чей-то голос из задних рядов.
– Чего тут разговаривать? Свистунова оставить! Обратная партия согласна! – заглушила его крикливая глотка Китаева, уже успевшего снюхаться и со Свистуновым.
– Свистунова! Свистунова!
– Соколова!
– Ну так, значит, решено, господа, оставим Свистунова, – заключил Краснопёрое, как бы не расслышавший других голосов. – Остается теперь более важное дело – продажа майдана. А то насидимся в дороге без чаю, сахару и табаку. Сколько же дадите за майдан, старики?
Все молчали.
– Я сам готов дать три рубля, – заявил тогда Красноперое.
– Три рубля! Кто больше? – закричал, появляясь вдруг на тех же нарах и беря в свои руки бразды правления, староста Свистунов, мужчина атлетического сложения с розовыми надутыми щеками и длинными рыжими усами.
– Четыре рубля даю, – .отозвался красивый брюнет с гладко выбритыми щеками, одетый в черный сюртук и. серые клетчатые брюки. Очевидно это и был еврей Левенштейн, о котором предупреждал Красноперое.
– Слышите, четыре! Кто больше? Красноперое предложил шесть рублей, Левенштейн восемь. После того Красноперое замолк. Свистунов готовился уже выкрикнуть, что майдан поступает к Левенштейну, как вдруг с противоположной стороны из толпы послышался негромкий и точно охрипший несколько голос, заставивший всех невольно обернуться:
– Пятьдесят кипеек набавлю.
– Ба! Землячок? Это ты? – изумился обрадованный Китаев. – Не уступай, не уступай, брат, жиду, поддержи наших!
Все захохотали и протолкали Николаева вперед к нарам, где происходила борьба.
. – Пятьдесят кипеек набавляю, – повторил он еще раз, откашливаясь, и смело взглянул на противника своими серыми проницательными глазами.
– Десять рублей даю, – объявил Левенштейн.
– Пятьдесят кипеек набавляю! – невозмутимо отозвался Николаев.
– Двенадцать рублей!
– Двенадцать с полтиной..
– Четырнадцать.
– Четырнадцать с полтиной…
– Ого-го! Молодчинища, старик. Не уступает! He робеет!
– Ай да Павел Николаев. Знай наших шелайских!
– Да и не уступлю… Вы как думали? – приосанившись, заявил Николаев, торжественно оборачиваясь к толпе и вызывая в ней взрыв сочувственного хохота.
– Значит, четырнадцать с полтиной. Кто больше? Левенштейн советовался с кучкой товарищей. Рядом с ним очутился и Красноперов, тоже что-то шепнувший ему.
– Второй раз четырнадцать с полтиной… Кто больше?
– Шестнадцать рублей, – сказал Левенштейн.
– Шестнадцать с полтиной, – как эхо, откликнулся Николаев.
От волнения он был красен как вареный рак, но на лице написана была твердая решимость. Китаев в искреннем восторге то и дело посылал ему громкие одобрения.
– Не робей, дружище, катай его! Закатывай!
– А чего думаешь? И не обробею! – хвастался расходившийся старичина. – Так прямо до сотни и стану гнать.
Толпа ответила на эти слова новым радостным гоготанием.
– Не старик это, а прямо два сбоку!
Однако кто-то из благоразумных подошел к нему и дружески предупредил, что майдан вряд ли стоит таких денег.
– Сказал: до сотни гнать буду! – не слушая, крикнул Николаев и нетерпеливо махнул рукой.
Левенштейн пытливо посмотрел на него.
– Двадцать рублей, – провозгласил он торжественно.
– Двадцать с полтиной, – дал свой обычный ответ Николаев, доводя веселье толпы до истерики.
Левенштейн отступился… Свистунов ударил кулаком по нарам.
– Майдан за тобой, старик! Половину денег сейчас же внеси.
Не успела состояться продажа майдана, как начали подбираться игроки. Они сошлись в меньшей камере, где у одной из стен находилось единственное место во всем этапе, казалось, совершенно укрытое от зорких глаз конвойной команды. Тут очутились и Китаев с Красноперовым, и еврей Левенштейн, только что пытавшийся отбить у Николаева майдан, и много других любителей сильных ощущений. Стремщик стоял уже на своем посту, и остановка была только за майданщиком, который обязан был доставить карты, свечу и устроить наблюдение за ходом игры. Николаева невозможно было узнать. Куда девались его степенность, солидность, неунывающая безмятежность, которыми еще недавно он так выгодно отличался от арестантской шпанки. Неопытный, совсем сбитый с толку, облитый потом, ярко разрумянившийся, он комично бросался из стороны в сторону, жалкий, беспомощный, как мокрая курица, не зная, что делать, с чего начать. Кобылка безжалостно издевалась и острила над ним. Наконец-то удалось ему завербовать себе в помощники татарина Равилова, знавшего толк в игре и согласившегося наняться за известную плату. Разостлали на полу коврик, зажгли сальную свечу, стали сдавать карты. Равилов прикурнул возле играющих с намерением записывать число сыгранных партий, от которых майданщику шел десятипроцентный доход. Сам же Николаев, потешая собравшуюся толпу любопытных, ходил вокруг, взволнованно ударял себя то и дело руками по бедрам и говорил:
– Эвона в какую беду сам себя втюрил! Вот драть-то бы кого, старого дуралея, надо! Не было никакой заботы, лежал себе на боку, припеваючи, так нет! Надыть было такую обузу на плечи взвалить. Ну, не диво ли, люди добрые, а? И когда теперь выберешь эти двадцать с полтиной, а?
– Пропала теперь твоя голова, старик! – смеялись над ним арестанты. – Еще погоди, прикладов от капитана Петровского отведаешь!
– Да неужто?!
– Я прошу вот дедушку письмецо к Сашеньке написать, – поспешила она объявить мужу с деланной, заискивающей улыбкой.
Перминов принял тотчас же свой обычный медоточивый вид и начал просить Николаева сочинить письмо, не откладывая в долгий ящик. Старик не заставил себя уговаривать и, достав лист серой бумаги, перо и чернила и вооружившись огромными старомодными очками в черепаховой оправе, немедленно приступил к сочинительству. Сперва следовали обычные поклоны всей родне и знакомым, затем обычное же: "Посылаю вам, любезная дочь моя Сашенька, материнское свое благословение, которое может быть вам полезным до гробовой доски". Дальше расписывались яркими красками прелести и выгоды жизни в Забайкальской области и в заключение предлагался Сашеньке совет бросить неблагодарную родину и ехать к любящим родителям на новую, более счастливую жизнь.
Старуха все время заливалась слезами, пока писалось письмо, однако так и не посмела высказать какое-нибудь противоречие тому, что диктовал муж. Взгляд его зеленых глаз, казалось, усыплял в ней всякую мысль, подавлял всякое движение ее собственной воли. И Николаев не сомневался в том, что мечты ее уйти от этого человека так и останутся навсегда пустыми, несбыточными мечтами…
Только что заперли после вечерней поверки коридор, оставив на этот раз камеры отворенными, как кто-то прокричал зычным голосом, чтоб все сходились в одно место на выбор артельных чиновников. Арестанты повалили тотчас же в большую камеру, одни – движимые общественными инстинктами, другие – простым любопытством. В меньшей камере остались на месте только Боруховичи, Перминовы да сумасшедший Бова, неподвижно сидевший в своем углу в шапке и шубе, сучивший какую-то веревку и ворчавший себе под нос разные заклинания. Даже семидесятишестилетний Тимофеев с своим длинным табачным носом и клеймом на морщинистом лбу поплелся вместе с другими. А впереди всех неспешными шагами двигался в низко подпоясанной ремешком белой рубахе, со скрещенными на груди руками и несколько насмешливой улыбкой, старик Николаев.
– Ну что, не надумал, асмодей? – хлопнул его по плечу суетливый Китаев и, не дождавшись ответа, побежал вперед разыскивать Красноперова. Но Красноперов уже сам заявил о себе. Взобравшись на нары, он закричал к собравшейся толпе:
– Не будем терять, господа, времени! Что касается старосты, то мы все здесь смело можем уверить обратную партию, что лучше прежнего нашего старосты Свистунова желать нельзя. Да и выбирать больше некого.
– Как некого? Соколова можно выбрать, а не то Иванова, – послышался чей-то голос из задних рядов.
– Чего тут разговаривать? Свистунова оставить! Обратная партия согласна! – заглушила его крикливая глотка Китаева, уже успевшего снюхаться и со Свистуновым.
– Свистунова! Свистунова!
– Соколова!
– Ну так, значит, решено, господа, оставим Свистунова, – заключил Краснопёрое, как бы не расслышавший других голосов. – Остается теперь более важное дело – продажа майдана. А то насидимся в дороге без чаю, сахару и табаку. Сколько же дадите за майдан, старики?
Все молчали.
– Я сам готов дать три рубля, – заявил тогда Красноперое.
– Три рубля! Кто больше? – закричал, появляясь вдруг на тех же нарах и беря в свои руки бразды правления, староста Свистунов, мужчина атлетического сложения с розовыми надутыми щеками и длинными рыжими усами.
– Четыре рубля даю, – .отозвался красивый брюнет с гладко выбритыми щеками, одетый в черный сюртук и. серые клетчатые брюки. Очевидно это и был еврей Левенштейн, о котором предупреждал Красноперое.
– Слышите, четыре! Кто больше? Красноперое предложил шесть рублей, Левенштейн восемь. После того Красноперое замолк. Свистунов готовился уже выкрикнуть, что майдан поступает к Левенштейну, как вдруг с противоположной стороны из толпы послышался негромкий и точно охрипший несколько голос, заставивший всех невольно обернуться:
– Пятьдесят кипеек набавлю.
– Ба! Землячок? Это ты? – изумился обрадованный Китаев. – Не уступай, не уступай, брат, жиду, поддержи наших!
Все захохотали и протолкали Николаева вперед к нарам, где происходила борьба.
. – Пятьдесят кипеек набавляю, – повторил он еще раз, откашливаясь, и смело взглянул на противника своими серыми проницательными глазами.
– Десять рублей даю, – объявил Левенштейн.
– Пятьдесят кипеек набавляю! – невозмутимо отозвался Николаев.
– Двенадцать рублей!
– Двенадцать с полтиной..
– Четырнадцать.
– Четырнадцать с полтиной…
– Ого-го! Молодчинища, старик. Не уступает! He робеет!
– Ай да Павел Николаев. Знай наших шелайских!
– Да и не уступлю… Вы как думали? – приосанившись, заявил Николаев, торжественно оборачиваясь к толпе и вызывая в ней взрыв сочувственного хохота.
– Значит, четырнадцать с полтиной. Кто больше? Левенштейн советовался с кучкой товарищей. Рядом с ним очутился и Красноперов, тоже что-то шепнувший ему.
– Второй раз четырнадцать с полтиной… Кто больше?
– Шестнадцать рублей, – сказал Левенштейн.
– Шестнадцать с полтиной, – как эхо, откликнулся Николаев.
От волнения он был красен как вареный рак, но на лице написана была твердая решимость. Китаев в искреннем восторге то и дело посылал ему громкие одобрения.
– Не робей, дружище, катай его! Закатывай!
– А чего думаешь? И не обробею! – хвастался расходившийся старичина. – Так прямо до сотни и стану гнать.
Толпа ответила на эти слова новым радостным гоготанием.
– Не старик это, а прямо два сбоку!
Однако кто-то из благоразумных подошел к нему и дружески предупредил, что майдан вряд ли стоит таких денег.
– Сказал: до сотни гнать буду! – не слушая, крикнул Николаев и нетерпеливо махнул рукой.
Левенштейн пытливо посмотрел на него.
– Двадцать рублей, – провозгласил он торжественно.
– Двадцать с полтиной, – дал свой обычный ответ Николаев, доводя веселье толпы до истерики.
Левенштейн отступился… Свистунов ударил кулаком по нарам.
– Майдан за тобой, старик! Половину денег сейчас же внеси.
Не успела состояться продажа майдана, как начали подбираться игроки. Они сошлись в меньшей камере, где у одной из стен находилось единственное место во всем этапе, казалось, совершенно укрытое от зорких глаз конвойной команды. Тут очутились и Китаев с Красноперовым, и еврей Левенштейн, только что пытавшийся отбить у Николаева майдан, и много других любителей сильных ощущений. Стремщик стоял уже на своем посту, и остановка была только за майданщиком, который обязан был доставить карты, свечу и устроить наблюдение за ходом игры. Николаева невозможно было узнать. Куда девались его степенность, солидность, неунывающая безмятежность, которыми еще недавно он так выгодно отличался от арестантской шпанки. Неопытный, совсем сбитый с толку, облитый потом, ярко разрумянившийся, он комично бросался из стороны в сторону, жалкий, беспомощный, как мокрая курица, не зная, что делать, с чего начать. Кобылка безжалостно издевалась и острила над ним. Наконец-то удалось ему завербовать себе в помощники татарина Равилова, знавшего толк в игре и согласившегося наняться за известную плату. Разостлали на полу коврик, зажгли сальную свечу, стали сдавать карты. Равилов прикурнул возле играющих с намерением записывать число сыгранных партий, от которых майданщику шел десятипроцентный доход. Сам же Николаев, потешая собравшуюся толпу любопытных, ходил вокруг, взволнованно ударял себя то и дело руками по бедрам и говорил:
– Эвона в какую беду сам себя втюрил! Вот драть-то бы кого, старого дуралея, надо! Не было никакой заботы, лежал себе на боку, припеваючи, так нет! Надыть было такую обузу на плечи взвалить. Ну, не диво ли, люди добрые, а? И когда теперь выберешь эти двадцать с полтиной, а?
– Пропала теперь твоя голова, старик! – смеялись над ним арестанты. – Еще погоди, прикладов от капитана Петровского отведаешь!
– Да неужто?!