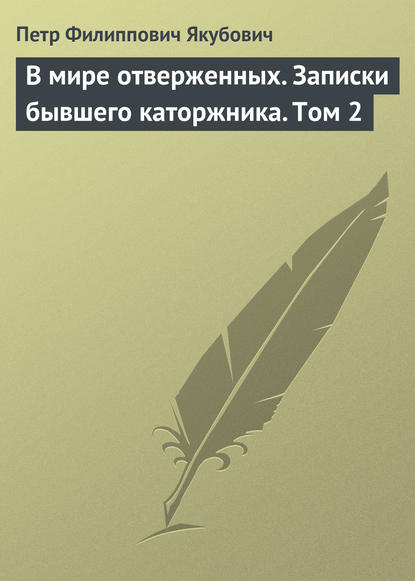По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да вот о детях… Что, мол, на улице… Отец в тюрьме, мать умерла.
– Заведующий каторгой еще вчера утром сделал замечание, что в приюте уже целых девять еврейских мальчиков. Скоро весь приют жиденята заполонят.
– Так как же быть?
– Да так же и быть! Мы не в богоугодном заведении с. вами служим. Извольте делать свое дело. Надзиратели, отведите арестанта в тюрьму!
Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказание начальства и хотели было потащить Боруховича; но он точно обезумел: с силой вырвался из их рук и посмотрел вокруг с таким грозным видом, что надзиратели остановились…
– Как, ваше благородие? – закричал он, кидаясь снова к смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вытянул вперед палку. – Как! Еврейские дети разве щенята, что их на мороз можно выкинуть, без матери, без отца оставить? Они разве пить-есть не просят, не плачут, как другие дети? Евреи совсем не люди? Нет! Я не пойду в тюрьму, я не брошу их на улице – лучше убейте меня, прикажите солдатам застрелить меня… Или души во мне нет, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа начальники! И над вами бог… И вы – люди.
Странное что-то случилось с Боруховичем. Он говорил не так, как всегда, робко и приниженно, а властно, торжественно, даже против обыкновения почти не пришепетывая, голосом, полным слез и проникающим в самую душу… И лицо его словно преобразилось в эту минуту: исчез тот смешной Мойша Борухович, которого все перед тем знали и видели, маленький человек с клинообразной бородкой, остреньким носиком, бегающими глазками и внушающей жалость фигурой. Спина его как-то вдруг распрямилась, загоревшиеся глаза странно расширились, и все лицо сделалось иным, внушительным, почти красивым…
К общему удивлению, смотритель, вместо того чтобы выйти из себя, раскричаться, слушал его речь как-то смущенно и растерянно.
– Да я что же? Экой ты, братец… Я бы и рад ведь… – бормотал он, беспомощно озираясь вокруг.
В эту самую минуту сквозь толпу протолкался высокий костлявый старик с длинной седой бородой, в простой арестантской одежде, но с необыкновенным достоинством в лице и во всех движениях.
Это был еврей-вольнокомандец, ювелир и часовщик по профессии, пользовавшийся в местном населении большой известностью и даже уважением.
Он давно уже стоял возле тюрьмы, видел всю сцену с начала до конца и, сильно взволнованный, принял теперь внезапное решение.
– Ты чего, Гольдберг? – обратился к нему смотритель, точно от него ожидая спасения.
– Я беру к себе на воспитание двух малюток! – объявил старик, хватая за руку своего злополучного соплеменника.
– Ну, вот и прекрасно, – обрадовался смотритель, – мальчугана я, пожалуй, к себе возьму…Мне рассыльный мальчишка как раз нужен.
– Я тоже возьму самую маленькую девочку, – добавил молодой помощник, весь зардевшись как пион, – у нас детей нет, и жена будет очень рада.
– Еще лучше. Значит, одна только девчонка остается. Вот ежели ты, Гольдберг, согласишься взять двух средних, так старшую, наверное, Оладьины возьмут – им нянька нужна для ребенка. Ну и все дело устроится. А то шум подняли невесть из чего, из-за выеденного яйца! Так-то оно всегда лучше выходит, по человечеству… Ну, вы кончили с приемкой, Павел Яковлевич? Ты… как бишь тебя зовут?.. Дурья ты голова… Жид – так он и есть жид! Ты прощайся скорей со своим кагалом и марш в тюрьму. Давно пора. На дворе темно совсем, и конвою надо отдохнуть.
И с этими словами смотритель сурово повернул к дому; но, отойдя несколько шагов, вдруг приостановился и вполоборота крикнул:
– А ты, малец, – как тебя там – за мной ступай!
Между тем Мойша, весь обессилевший и дрожавший как в лихорадке, без счета осыпал поцелуями холодные личики детей, перепуганных, еще смертельно бледных после только что пережитой, мало понятной им, но страшной сцены. Они прощались с отцом как-то машинально, тупо, без слез. Наконец Мойша взвалил свой мешок на плечо и тихо поплелся к воротам тюрьмы, в которых и скрылся, ни разу не оглянувшись назад.
И так был он опять жалок, некрасив и смешон в своем бедном арестантском одеянии, с мешком казенных вещей на согнутой спине!..
Среди сопок
В тряской одноконной таратайке я сижу рядом с надзирателем и плетусь легкой рысцой из Горного Зерентуя в Кадаю,[23 - Слово Кадая произносится с ударением на слоге "я". (Прим. Автора)] куда назначен в так называемую вольную команду. Надзиратель, впрочем, совершенно безоружен и приставлен ко мне скорее в качестве проводника; он везет, кроме того, мои бумаги для вручения их кадаинскому смотрителю.
Как будто справляя праздник моего освобождения, и солнышко приветливо глядит сегодня с неба, все последнее время закрытого холодными, серыми тучами… Над головой ни облачка; такое ясное, синее, ласковое это чудное осеннее утро! Невольно забываешь, что на дворе уже поздняя осень (первые числа ноября), и чудится дыханье теплой, обворожительной весны. Но почему же на душе такое странное, неясное чувство, похожее на грусть? Не то радостно и легко, не то жаль чего-то невыразимо, и хочется смеяться детски беспечным смехом, и горькие слезы подступают к горлу, душат и жгут…
Монотонно-величавые, печальные картины встречает повсюду глаз на тридцатишестиверстном пути от Горного Зерентуя до Кадаи. И позади, и впереди, и по обеим сторонам извилистой дороги, куда только проникает взор, раскинулось море сопок – конусообразных возвышений, точно капли воды похожих одно на другое и видом своим пробуждающих в душе пришельца-чужанина тоскливое, болезненно тревожное настроение. Точно железным кольцом охватили горизонт их унылые, оголенные громады с пожелтелой травой и побурелым кустарником, и нет им конца, нет числа… Целое войско сопок – толпа за толпой, гряда за грядой; они выглядывают со всех сторон, теснятся, взбираются одна на другую; а там, на краю неба, причудливые очертания гор слились с кудрями выплывающих из-за них облаков и утонули в голубоватом тумане осеннего утра… Ни ручейка, ни деревца кругом! Краски поблекли, звуки жизни замерли… Задумаешься – и кажется, будто плывешь по огромному сказочному океану: зелено-желтые волны его поднялись и заснули волшебным сном, окаменев в исполинском взмахе!..
– Как скучно у вас! – обратился я наконец к спутнику, прерывая тягостное молчание. – В Шелае сопки хоть лесом покрыты, а здесь – пустыня, смерть…
– Что это вы так ремизите нашу восточную Даурию?[44 - Восточная Даурия – часть Читинской области между Яблоновым хребтом и рекой Аргунью.] – ответил надзиратель, желая, видимо, блеснуть передо мною образованностью. – Поживите – авось и слюбится. Вот посмотрите ужо, что весной тут у нас пойдет! Куда вашей Расее выстоять!
– А вы бывали в России?
– Не удалось, положим, однако по книжкам все же знаем, да и от расейских людей слыхивали. Места у вас ровные, пашни все да лесочки – что в этом может быть приятного?
– А что ж такое у вас тут весной "пойдет"?
– Первоначально палы пойдут… Для нашего брата крестьян – оно точно – штука это опасная, ну, а ежели красоты природы искать, так доложу вам – первый сорт!
– Какие это палы, объясните, пожалуйста.
Оказалось, травяные пожары. Зажжет какой-нибудь прохожий сухую прошлогоднюю траву, и огонь неудержимо начнет разливаться вокруг. Великолепное зрелище представляется тогда в ночной темноте; за десятки верст уже различаешь блестящее зарево, а горящие ближе сопки, эффектно перекидывая с места на место гигантские огненные языки, производят поистине жуткую иллюзию огнедышащих вулканов…
– А потом цветов у нас какое множество! – продолжал разговорившийся патриот надзиратель. – Вряд ли в другом где месте столько сыщите. Сперва пойдет ургуй… Снег не успел еще стаять, а он уж, глядишь, красуется по солнопекам. Потом марьины коренья пойдут…
– Едят их, что ли?
– Зачем едят! Тоже цветы… Распустятся, ровно чашки большие, белые, розовые. Все поле белеет. Дух от их сладкий-сладкий стоит! А опять тоже долинки есть – ландышем тольным усеяны. Ну и сарана тоже браво цветет, багульник… Ежели вы охотник, так и для птицы лучших местов по всей Сибири, может, не сыщете: уток, рябчиков, косачей у нас видимо-невидимо. А что до песен касается, так от одних жаворонков здесь в летнюю пору прямо стон стоит! Кукушкам счету нет. Просто надоедят проклятые: что ни сопка – то своя кукушка, так и перекликаются, так и перебивают друг дружку. Весной и летом у нас браво!
Короткий день умирал, когда, переехав речку Борзю, мы достигли наконец цели поездки. Глазам нашим представилась довольно большая деревня в три длинных, параллельных одна другой улицы; но расположилась Кадая в такой узкой, мрачной котловине, с обоих боков ее охватили такие грозные горные громады, что производит она впечатление чего-то жалкого, забитого, немощного… Правая сторона деревни возвышенная – она примыкает к тем самым сопкам, где помещается богатый серебряными залежами рудник; левая, напротив, представляет низкую, болотистую долину, но за этим узким болотом почти отвесной стеной поднялся гигант утес, господствующий над всей окрестностью. Он словно висит в воздухе и грозит упасть и похоронить под своими развалинами приютившееся у его ног селение. Да тут и в действительности был когда-то обвал, быть может даже искусственный: об этом свидетельствует голый неровный бок утеса, обращенный к деревне, и груда лежащих внизу глыб и осколков гранита. Пустыней и холодом веет от этой полуразрушенной, но все еще неприступной твердыни. Я невольно поглядывал на нее все время, пока мы ехал<и вверх по деревне, направляясь к тюрьме.
– А вон видите там кресты? – спросил надзиратель, указывая влево от утеса на небольшой холмик.
Я ничего не мог различить в наступавших сумерках.
– Кладбище, что ли?
– Нет, крестьянское кладбище там вон, на другой стороне деревни. А здесь поляки похоронены.[45 - Имеются в виду участники польских восстаний 1830 и 1863 годов.]
– Какие поляки?
– Преступники… Их ведь тут дивно было. Есть, однако, и русский один, Михайлов.
– Михайлов?..
Мне сразу вспомнилось, что именно в этих местах жил и умер в изгнании известный поэт и публицист 60-х годов, талантливый переводчик стихотворений Гейне, Михаил Ларионович Михайлов. Вспомнилось и то, что в Кадаинском же руднике жил одно время и еще более знаменитый автор "Очерков гоголевского периода".[46 - Автор "Очерков гоголевского периода" – Н. Г. Чернышевский (1828–1889).] Я с живостью начал расспрашивать словоохотливого собеседника о тех временах и о тех людях, но оказалось, что он и сам ровно ничего не знал, кроме имен и голых фактов.
– Наверное, тут старики отыщутся, которые все вам окончательно обскажут, – утешил он меня, видя мое любопытство и огорчение.
Напрягая зрение, я продолжал вглядываться в серую вечернюю даль, и мне вдруг стало казаться, что я тоже вижу на вершине одного из холмов какой-то высокий шест… Сердце мое учащенно забилось, голова сама собой поднималась выше при мысли, что эти места, где суждено теперь жить мне, безвестному скитальцу, отмечены жизнью людей одной из замечательнейших эпох русской истории, и каких людей! И губы мои невольно шептали стихи из известного послания поэта к друзьям:
В безотрадной мгле изгнанья
Буду твердо света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша.
Встреть в бою победа вас,
– Заведующий каторгой еще вчера утром сделал замечание, что в приюте уже целых девять еврейских мальчиков. Скоро весь приют жиденята заполонят.
– Так как же быть?
– Да так же и быть! Мы не в богоугодном заведении с. вами служим. Извольте делать свое дело. Надзиратели, отведите арестанта в тюрьму!
Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказание начальства и хотели было потащить Боруховича; но он точно обезумел: с силой вырвался из их рук и посмотрел вокруг с таким грозным видом, что надзиратели остановились…
– Как, ваше благородие? – закричал он, кидаясь снова к смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вытянул вперед палку. – Как! Еврейские дети разве щенята, что их на мороз можно выкинуть, без матери, без отца оставить? Они разве пить-есть не просят, не плачут, как другие дети? Евреи совсем не люди? Нет! Я не пойду в тюрьму, я не брошу их на улице – лучше убейте меня, прикажите солдатам застрелить меня… Или души во мне нет, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа начальники! И над вами бог… И вы – люди.
Странное что-то случилось с Боруховичем. Он говорил не так, как всегда, робко и приниженно, а властно, торжественно, даже против обыкновения почти не пришепетывая, голосом, полным слез и проникающим в самую душу… И лицо его словно преобразилось в эту минуту: исчез тот смешной Мойша Борухович, которого все перед тем знали и видели, маленький человек с клинообразной бородкой, остреньким носиком, бегающими глазками и внушающей жалость фигурой. Спина его как-то вдруг распрямилась, загоревшиеся глаза странно расширились, и все лицо сделалось иным, внушительным, почти красивым…
К общему удивлению, смотритель, вместо того чтобы выйти из себя, раскричаться, слушал его речь как-то смущенно и растерянно.
– Да я что же? Экой ты, братец… Я бы и рад ведь… – бормотал он, беспомощно озираясь вокруг.
В эту самую минуту сквозь толпу протолкался высокий костлявый старик с длинной седой бородой, в простой арестантской одежде, но с необыкновенным достоинством в лице и во всех движениях.
Это был еврей-вольнокомандец, ювелир и часовщик по профессии, пользовавшийся в местном населении большой известностью и даже уважением.
Он давно уже стоял возле тюрьмы, видел всю сцену с начала до конца и, сильно взволнованный, принял теперь внезапное решение.
– Ты чего, Гольдберг? – обратился к нему смотритель, точно от него ожидая спасения.
– Я беру к себе на воспитание двух малюток! – объявил старик, хватая за руку своего злополучного соплеменника.
– Ну, вот и прекрасно, – обрадовался смотритель, – мальчугана я, пожалуй, к себе возьму…Мне рассыльный мальчишка как раз нужен.
– Я тоже возьму самую маленькую девочку, – добавил молодой помощник, весь зардевшись как пион, – у нас детей нет, и жена будет очень рада.
– Еще лучше. Значит, одна только девчонка остается. Вот ежели ты, Гольдберг, согласишься взять двух средних, так старшую, наверное, Оладьины возьмут – им нянька нужна для ребенка. Ну и все дело устроится. А то шум подняли невесть из чего, из-за выеденного яйца! Так-то оно всегда лучше выходит, по человечеству… Ну, вы кончили с приемкой, Павел Яковлевич? Ты… как бишь тебя зовут?.. Дурья ты голова… Жид – так он и есть жид! Ты прощайся скорей со своим кагалом и марш в тюрьму. Давно пора. На дворе темно совсем, и конвою надо отдохнуть.
И с этими словами смотритель сурово повернул к дому; но, отойдя несколько шагов, вдруг приостановился и вполоборота крикнул:
– А ты, малец, – как тебя там – за мной ступай!
Между тем Мойша, весь обессилевший и дрожавший как в лихорадке, без счета осыпал поцелуями холодные личики детей, перепуганных, еще смертельно бледных после только что пережитой, мало понятной им, но страшной сцены. Они прощались с отцом как-то машинально, тупо, без слез. Наконец Мойша взвалил свой мешок на плечо и тихо поплелся к воротам тюрьмы, в которых и скрылся, ни разу не оглянувшись назад.
И так был он опять жалок, некрасив и смешон в своем бедном арестантском одеянии, с мешком казенных вещей на согнутой спине!..
Среди сопок
В тряской одноконной таратайке я сижу рядом с надзирателем и плетусь легкой рысцой из Горного Зерентуя в Кадаю,[23 - Слово Кадая произносится с ударением на слоге "я". (Прим. Автора)] куда назначен в так называемую вольную команду. Надзиратель, впрочем, совершенно безоружен и приставлен ко мне скорее в качестве проводника; он везет, кроме того, мои бумаги для вручения их кадаинскому смотрителю.
Как будто справляя праздник моего освобождения, и солнышко приветливо глядит сегодня с неба, все последнее время закрытого холодными, серыми тучами… Над головой ни облачка; такое ясное, синее, ласковое это чудное осеннее утро! Невольно забываешь, что на дворе уже поздняя осень (первые числа ноября), и чудится дыханье теплой, обворожительной весны. Но почему же на душе такое странное, неясное чувство, похожее на грусть? Не то радостно и легко, не то жаль чего-то невыразимо, и хочется смеяться детски беспечным смехом, и горькие слезы подступают к горлу, душат и жгут…
Монотонно-величавые, печальные картины встречает повсюду глаз на тридцатишестиверстном пути от Горного Зерентуя до Кадаи. И позади, и впереди, и по обеим сторонам извилистой дороги, куда только проникает взор, раскинулось море сопок – конусообразных возвышений, точно капли воды похожих одно на другое и видом своим пробуждающих в душе пришельца-чужанина тоскливое, болезненно тревожное настроение. Точно железным кольцом охватили горизонт их унылые, оголенные громады с пожелтелой травой и побурелым кустарником, и нет им конца, нет числа… Целое войско сопок – толпа за толпой, гряда за грядой; они выглядывают со всех сторон, теснятся, взбираются одна на другую; а там, на краю неба, причудливые очертания гор слились с кудрями выплывающих из-за них облаков и утонули в голубоватом тумане осеннего утра… Ни ручейка, ни деревца кругом! Краски поблекли, звуки жизни замерли… Задумаешься – и кажется, будто плывешь по огромному сказочному океану: зелено-желтые волны его поднялись и заснули волшебным сном, окаменев в исполинском взмахе!..
– Как скучно у вас! – обратился я наконец к спутнику, прерывая тягостное молчание. – В Шелае сопки хоть лесом покрыты, а здесь – пустыня, смерть…
– Что это вы так ремизите нашу восточную Даурию?[44 - Восточная Даурия – часть Читинской области между Яблоновым хребтом и рекой Аргунью.] – ответил надзиратель, желая, видимо, блеснуть передо мною образованностью. – Поживите – авось и слюбится. Вот посмотрите ужо, что весной тут у нас пойдет! Куда вашей Расее выстоять!
– А вы бывали в России?
– Не удалось, положим, однако по книжкам все же знаем, да и от расейских людей слыхивали. Места у вас ровные, пашни все да лесочки – что в этом может быть приятного?
– А что ж такое у вас тут весной "пойдет"?
– Первоначально палы пойдут… Для нашего брата крестьян – оно точно – штука это опасная, ну, а ежели красоты природы искать, так доложу вам – первый сорт!
– Какие это палы, объясните, пожалуйста.
Оказалось, травяные пожары. Зажжет какой-нибудь прохожий сухую прошлогоднюю траву, и огонь неудержимо начнет разливаться вокруг. Великолепное зрелище представляется тогда в ночной темноте; за десятки верст уже различаешь блестящее зарево, а горящие ближе сопки, эффектно перекидывая с места на место гигантские огненные языки, производят поистине жуткую иллюзию огнедышащих вулканов…
– А потом цветов у нас какое множество! – продолжал разговорившийся патриот надзиратель. – Вряд ли в другом где месте столько сыщите. Сперва пойдет ургуй… Снег не успел еще стаять, а он уж, глядишь, красуется по солнопекам. Потом марьины коренья пойдут…
– Едят их, что ли?
– Зачем едят! Тоже цветы… Распустятся, ровно чашки большие, белые, розовые. Все поле белеет. Дух от их сладкий-сладкий стоит! А опять тоже долинки есть – ландышем тольным усеяны. Ну и сарана тоже браво цветет, багульник… Ежели вы охотник, так и для птицы лучших местов по всей Сибири, может, не сыщете: уток, рябчиков, косачей у нас видимо-невидимо. А что до песен касается, так от одних жаворонков здесь в летнюю пору прямо стон стоит! Кукушкам счету нет. Просто надоедят проклятые: что ни сопка – то своя кукушка, так и перекликаются, так и перебивают друг дружку. Весной и летом у нас браво!
Короткий день умирал, когда, переехав речку Борзю, мы достигли наконец цели поездки. Глазам нашим представилась довольно большая деревня в три длинных, параллельных одна другой улицы; но расположилась Кадая в такой узкой, мрачной котловине, с обоих боков ее охватили такие грозные горные громады, что производит она впечатление чего-то жалкого, забитого, немощного… Правая сторона деревни возвышенная – она примыкает к тем самым сопкам, где помещается богатый серебряными залежами рудник; левая, напротив, представляет низкую, болотистую долину, но за этим узким болотом почти отвесной стеной поднялся гигант утес, господствующий над всей окрестностью. Он словно висит в воздухе и грозит упасть и похоронить под своими развалинами приютившееся у его ног селение. Да тут и в действительности был когда-то обвал, быть может даже искусственный: об этом свидетельствует голый неровный бок утеса, обращенный к деревне, и груда лежащих внизу глыб и осколков гранита. Пустыней и холодом веет от этой полуразрушенной, но все еще неприступной твердыни. Я невольно поглядывал на нее все время, пока мы ехал<и вверх по деревне, направляясь к тюрьме.
– А вон видите там кресты? – спросил надзиратель, указывая влево от утеса на небольшой холмик.
Я ничего не мог различить в наступавших сумерках.
– Кладбище, что ли?
– Нет, крестьянское кладбище там вон, на другой стороне деревни. А здесь поляки похоронены.[45 - Имеются в виду участники польских восстаний 1830 и 1863 годов.]
– Какие поляки?
– Преступники… Их ведь тут дивно было. Есть, однако, и русский один, Михайлов.
– Михайлов?..
Мне сразу вспомнилось, что именно в этих местах жил и умер в изгнании известный поэт и публицист 60-х годов, талантливый переводчик стихотворений Гейне, Михаил Ларионович Михайлов. Вспомнилось и то, что в Кадаинском же руднике жил одно время и еще более знаменитый автор "Очерков гоголевского периода".[46 - Автор "Очерков гоголевского периода" – Н. Г. Чернышевский (1828–1889).] Я с живостью начал расспрашивать словоохотливого собеседника о тех временах и о тех людях, но оказалось, что он и сам ровно ничего не знал, кроме имен и голых фактов.
– Наверное, тут старики отыщутся, которые все вам окончательно обскажут, – утешил он меня, видя мое любопытство и огорчение.
Напрягая зрение, я продолжал вглядываться в серую вечернюю даль, и мне вдруг стало казаться, что я тоже вижу на вершине одного из холмов какой-то высокий шест… Сердце мое учащенно забилось, голова сама собой поднималась выше при мысли, что эти места, где суждено теперь жить мне, безвестному скитальцу, отмечены жизнью людей одной из замечательнейших эпох русской истории, и каких людей! И губы мои невольно шептали стихи из известного послания поэта к друзьям:
В безотрадной мгле изгнанья
Буду твердо света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша.
Встреть в бою победа вас,