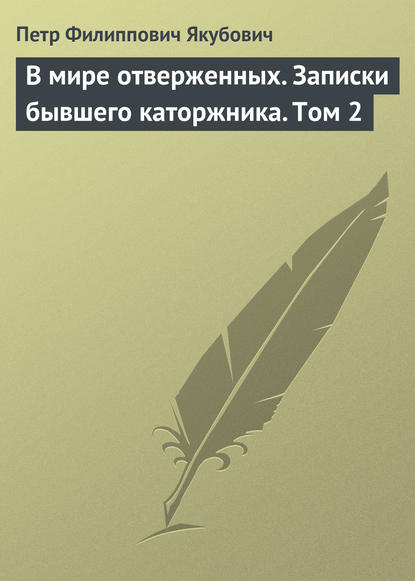По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего изволите спрашивать? – робко и недоумело переспросила она.
– Мне мать ваша рассказывала вчера, будто Костров шибко теснит вас… Я ей жаловаться советовал. По-моему, и то, что венчаться вам так долго не разрешают, противозаконно! – выпалил я одним духом, смущаясь, почему-то и краснея.
Девушка ничего не ответила и только прикрыла передником лицо, словно желая высморкаться.
– Да вы почему же сами не хотите с заведующим поговорить? Ведь он бывает здесь?
Она молчала по-прежнему… С чувством неловкости я все стоял, ожидая какого-нибудь ответа, и вдруг слух мой поразило тихое всхлипыванье…
Сконфуженный, я отошел в сторону; Дуняша скрылась в одно мгновение.
Как ни торопилась моя дорогая странница окончить свое длинное и трудное путешествие, оно все затягивалось и затягивалось, встречая всевозможные задержки – то в виде попорченных весенними разливами дорог, то ленивых или капризных попутчиков, то разных других непредвиденных случайностей. О моем волнении и тревоге нечего много рассказывать. Воображение рисовало бесчисленные грозившие Тане на пути опасности – крутые горы, диких лошадей, нападение разбойников, переправы через широкие реки, бури на Байкале… В лихорадочном ознобе вскакивал я по ночам с постели, услыхав малейший стук, в котором можно было заподозрить приход арестанта Василия, обыкновенно приносившего мне от смотрителя письма и депеши.
Однажды Кадаю посетил заведующий каторгой, и мне пришло в голову обратиться к нему с просьбой о разрешении – получив от сестры из ближайшего пункта телеграмму, выехать навстречу ей на последнюю станцию. Просьба была, правда, очень щекотливая, успех крайне сомнителен, но я решил попытать счастья. Здесь впервые пришлось мне разговаривать с заведующим лицом к лицу. Он принял меня в кабинете Кострова наедине и хотя сесть не пригласил, но зато и сам в продолжение, беседы стоял на ногах. На умном, почти хитром лице этого худенького, невзрачного, но обстрелянного в боях человека лежала всегда маска холодной непроницаемости; никто и никогда не мог бы сказать, что он думает про себя о том или другом предмете; искренне или с какой-либо задней мыслью говорит так или иначе. Голос его всегда был мягок, ровен, почти ласков, безразлично – заключали ли в себе его слова милость или смертный приговор.
Сверх всякого ожидания, к просьбе моей заведующий отнесся без всякого удивления, с видимой даже благосклонностью, и только попытался отговорить ехать.
– Я вполне уверен, что вы не бежите, – сказал он с легкой тенью улыбки на каменном лице, – и охотно готов отпустить без всякого конвоя, но… в ваших же собственных интересах не предпринимать этой поездки. Вы, наверное, разъедетесь с вашей сестрой. Она, вы говорите, едет с попутчиком, и если он – что всего вероятнее – какой-нибудь чиновник из завода, то они могут на земских лошадях ехать. Вы будете ждать на почтовой станции, а они на земской квартире остановятся.
– Такой случай легко предупредить, – парировал я это соображение, – на земской квартире я сделаю на всякий случай заявление о себе.
Заведующий сухо наклонил голову.
– Хорошо. Но… более, чем на одни сутки, я не вправе отпустить вас без конвоя.
Я поклонился.
– Надеюсь, этого срока мне будет вполне достаточно.
Однако, когда прошло после того целых пять дней, а от Тани, давно находившейся в Чите, не приходило никаких новых известий, я ужасно заволновался. В мозгу моем зародилось даже подозренье, что заведующий нарочно распорядился позднее отослать мне телеграмму, чтобы расстроить эту не совсем желательную ему поездку…
Раз поздним вечером над Кадаей разразилась сильная, первая в этом году, гроза… Дождь лил свирепыми потоками, гром гремел почти не переставая, а молнии сверкали в разных местах неба так часто, что в воздухе стоял почти сплошной яркий свет, лишь на короткие мгновения прерываемый густым, черным мраком. Сидя в одиночестве подле окна, в темной комнате, я с отчетливостью различал все окрестные сопки, в грозном безмолвии и неподвижности, точно часовые, стоявшие на своих постах. Мне было невыразимо грустно и больно; сильнее чем когда-либо давало себя чувствовать одиночество изгнанника…
Вдруг резкий, нетерпеливый стук в наружную дверь прервал мои меланхолические размышления, и вслед за тем послышался знакомый голос:
– Иван Николаевич, спите?.. Отворите, а то потону вовсе! Тилеграм!..
Это был рассыльный Василий с желанной телеграммой в руках, заключавшей в себе одно только слово: "Еду".
Одна мысль, одно чувство охватили меня: "Пора!"… С радостным волнением бросился я к хозяину, который заранее обещал повезти меня во всякое время дня и ночи, когда только будет нужно. Оказалось, однако, не так-то легко заставить сибиряка в ту же минуту тронуться с места. Хозяин Иван Григорьевич, накануне был, по обыкновению, пьян и теперь спал богатырским сном, так что с помощью всей его семьи мне стоило немалого труда поднять его и добиться членораздельных звуков. Но и эти звуки в начале были малоутешительны.
– Как же это так? Ведь оно того… Теметь-то вишь какая на дворе… Гремит-то как!
Но я был неумолим и убедительно взывал к чувству верности данному раз слову. Тогда, почесавшись еще немного и раздумчиво посопев носом, Иван Григорьевич схватился внезапно с места и как стрела ринулся, в чем был, на улицу, чтобы произвести там необходимые метеорологические наблюдения. Дождь уже прекратился, и только там и сям рокотали еще в ночной тишине бешено струившиеся потоки воды; им глухо вторил замиравший в отдалении гром; молнии вспыхивали значительно слабее и реже, но зато теперь было так темно, что в двух аршинах трудно было разглядеть человека.
– Теметь-то, главное дело, вот беда! – сконфуженно обратился ко мне Иван Григорьевич, безнадежно ударив себя рукой по бедру. – Дорогу-то, главное, всю размыло. Того и гляди в колдобину влетим, себе и коням ребра поломаем. Вот ведь что главное дело! Нельзя ли месяца хоть дождаться?
– А скоро ли он взойдет?
– Через час, много два беспременно объявиться должен… Потому, главное дело, теметь страшенная, колдобин понамыто дождем! А то я с моим, конечно, удовольствием…
Приходилось покориться и ждать месяца. Накормив лошадей и выправив свой фурман (тарантас), Иван Григорьевич отправился еще немного вздремнуть, я же ни на одну минуту не мог сомкнуть глаз. Приятная, сладкая дрожь то и дело пробегала по всему телу… Десятки раз выходил я на улицу, и, вероятно, ни один в мире влюбленный не искал никогда с более страстным нетерпением появления на горизонте ночного светила. Но всюду по-прежнему царил мрак, и даже безгромные далекие зарницы поблескивали все реже и реже. Ежеминутно поглядывал я на часы, и вот наконец, ровно в два часа ночи, на краю неба забрезжило слабое зарево…
– Иван Григорьевич, месяц всходит! – кинулся як своему дремавшему вознице.
Полчаса спустя на паре сытых и бойких лошадок мы летели во весь опор между бесконечными рядами безмолвных сопок, сплошь залитых волшебным серебряным светом. Как обольстительно прекрасна была эта ночь после первой грозы! Какая ясная бодрость разливалась по всем жилам и как лихорадочно жадно вглядывался я в синюю даль, там и сям перерезанную черными тенями гор!
На другой день около полудня мы уже были за пятьдесят верст от Кадаи, на почтовой станции. Никакой барышни с господином ни вчера, ни сегодня еще не было в числе проезжающих. Но едва только это известие успокоило меня, как возникло опасение, что полученный мной суточный отпуск пройдет раньше, чем приедет Таня… Опасения эти росли с каждым часом, и когда наступила ночь и возница мой, вливши в себя двадцатый стакан чаю, спокойно разлегся на полу и вскоре его громкое храпение раздалось по всей станции, я не на шутку разволновался. Не находя нигде места себе, в болезненней тоске метался я из стороны в сторону, выбегал на крыльцо, прислушивался к ночной тишине, снова входил в комнату, садился и через минуту опять вставал на ноги. И мне казалось, что если сестра почему-либо опоздает и я не дождусь ее здесь, на почтовой станции, то это будет непоправимым для нас обоих несчастием; что и самая радость свидания, хотя бы оно и состоялось несколько часов спустя, будет уже неполной, отравленной!
Не знаю, каким образом я все-таки под конец заснул: нервное утомление, должно быть, взяло свое. Но сон мой был тревожен и болезненно чуток. Странные, смутно-печальные, неясные видения сменяли одно другое – и вдруг точно электрический ток прошел по мне с ног до головы… Резкий металлический звук ворвался в окно вместе с порывом свежего ночного ветра…
Я вскочил – это колокольчик… Это она едет!
Я кинулся второпях к дверям, едва успев захватить шапку и чуть не споткнувшись об Ивана Григорьевича, который в живописном беспорядке откатился от первоначального своего ложа почти к самому порогу.
По небу бродили тучи, разбрасываемые порывистым ветром, и из-под них таинственно выглядывал, как желтый глаз огромного призрака, молчаливо скользящий месяц. Я прислушался – колокольчик еще раз брякнул, потом затих на мгновение и вот стал гудеть уже непрерывно. Не могло быть сомнения: это ехали почтовые лошади с ближайшей станции. В неистовом восторге бросился я к ним навстречу… Вот показалась наконец и тройка и почтовая кибитка со спущенным верхом. Вот она поравнялась со мной… Я напряг все силы своего зрения и различил внутри, среди подушек, неясный силуэт человека, по-видимому мужчины. Однако тайный голос не переставал твердить мне, что тут же должна находиться и Таня… Следом за кибиткой я побежал к станции. Когда, задыхаясь от усталости и волнения, я приблизился к крыльцу, лошади уже несколько минут были на месте и у подножки тарантаса стоял незнакомый мне усатый господин с дорожной сумкой через плечо.
– Пора проснуться, приехали! – сказал он, обращаясь к кому-то другому, находившемуся еще в глубине возка.
– Неужели? – отвечал оттуда заспанный голос, и этот тонкий серебряный голос, несомненно, принадлежал очень молоденькой женщине.
Держась рукой за грудь, в которой бешено колотилось сердце, и не в силах говорить от волнения, я стоял бок о бок с приезжим, который несколько удивленно косился в мою сторону.
– Татьяна Николаевна, вы долго намерены нежиться? – наклонился он еще раз в повозку.
В одно мгновение я отстранил без дальних церемоний усатого господина, вскочил на подножку и принял в объятия только что проснувшуюся, донельзя изумленную девушку.
– Таня, родная!..[49 - В этой главе описывается приезд после пятилетней разлуки невесты П. Ф. Якубовича – Р. Ф. Франк, изображенной под именем сестры Тани. В Горном Зерентуе состоялась их свадьба.]
Веселый, жизнерадостный смех, неумолкаемое молодое щебетанье наполнили мою маленькую квартирку в Кадае. Точно светлый луч солнца ворвался в унылую жизнь, озарил и согрел своей лаской закоченевшую душу.
Решительно от всего приходила Таня в восторг – и от моей квартиры, и от хозяев, и от кадаинской природы. Еще по дороге со станции, несмотря на серый облачный день, она то и дело вскрикивала, обращаясь к Ивану Григорьевичу:
– Стойте! Смотрите, какой славный цветочек! Я слезу, сорву.
И мы оба вылезали из тарантаса и, как дети, бежали вперегонку к цветку. Таня не уставала восхищаться окружающими ландшафтами. Я сам с удивлением осматривался кругом, словно только что пробудившись от глубокого сна. В своей упорной меланхолии я чувствовал временами настоящую ненависть к этим угрюмым сопкам, стеснявшим горизонт и давившим душу; и мне казалось, что этот край изгнания самим богом проклят и вечно-вечно должен быть покрыт снегом, дышать холодом! В ожидании Таниного приезда, среди хлопот и тревог всякого рода, я и не заметил, как в окружающей природе совершилась резкая, волшебная перемена, и теперь, почти не доверяя глазам, видел эти недавно голые, пасмурно-ледяные вершины внезапно расцветшими, зазеленевшими, заблагоухавшими чудными, медовыми ароматами. И своеобразная, строгая, величавая красота открывалась мне в огромном, пустынном море зеленых сопок…
– А я-то воображала, что увижу совсем-совсем другое! – весело болтала девушка.
– Что же ты воображала, Таня? Что люди здесь с собачьими головами, а вместо неба – черная дыра?
– Не смейся надо мной, голубчик, но, право же, я испытываю самое приятное разочарование. Я думала, например, что ты до сих пор носишь на руках и ногах оковы, что к тебе и в вольной команде приставлен постоянно часовой с ружьем, а сама эта вольная команда – что-то вроде большой, мрачной казармы, где арестантов день и ночь заставляют маршировать по-солдатски, под бой барабана… Признаюсь, я думала тоже, что, кроме солдат да каторжников, здесь и людей других нет!
Таня говорила все это, волнуясь и краснея за свою молодую неопытность. Физически она не глядела уже девочкой моих грез и воспоминаний: это была высокая, довольно недурная собой, стройно сложенная девушка с пышными белокурыми локонами и большими василькового цвета глазами, и только в Глазах этих, всегда задумчивых и серьезных, виделся прежний наивно-мечтательный ребенок.
– Не в оковах главное зло, Таня, – отвечал я с улыбкой, – мне не хотелось бы, конечно, выводить тебя из твоего приятного "разочарования", и я от души желаю, чтоб никогда не пришлось тебе вторично разочаровываться; но скажу одно. Люди здесь, быть может, и не хуже сами по себе, чем в других местах, но над ними тяготеет постоянный кошмар злых, бесчеловечных порядков, обычаев и привычек. И сколько раз приходится видеть, как самый добрый по натуре человек совершает здесь возмутительно-зверские поступки потому только, что их можно совершать, принято совершать!
Но я видел, что охлаждающие замечания проходят мимо ушей моей собеседницы. Чтоб омрачить ее розовое настроение, нужны были не слова, а факты, последние же пришли не сразу: мы жили вдали от подлинной каторжной жизни кадаинской кобылки со всей обычной ее безрадостностью, многое я старался даже скрыть от сестры, и лишь значительно позже в наш мирный уголок стали врываться кое-какие мрачные диссонансы, отголоски мрачной действительности.