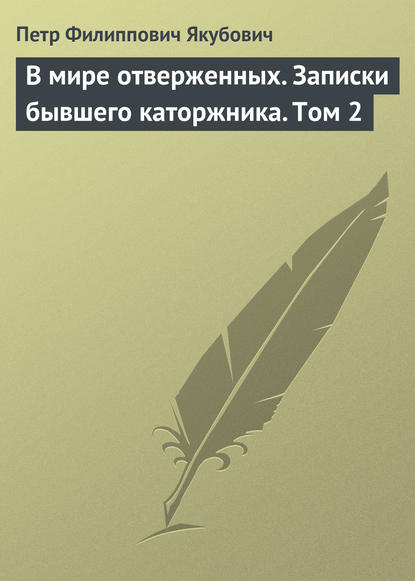По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А потом что?
– Потом? Ты шибко проворна, Сурка… Потом сама увидишь. Как только приедем в Горный Зелентуй, так всех вас, детоцки, в приют возьмут. Это такой хороший дом, такой хороший, что вы и не видали еще такого… Наденут на вас чистые переднички, белые капорчики. Много там и других девочек и мальчиков с вами будет. Весело, хорошо. Тепло и сытно. Только учиться хорошо надо и начальства слушаться.
– А чем кормить там будут?
– Хорошо кормить будут. Хлебом, и говядиной, и щами, и вшем таким.
– И молоком тоже?
– Ну и молоком по праздникам.
– И цаем?
– Вишь, воструха, чего захотела! Ну, даем, не даем, а березовой каши вдосталь дадут.
Среди таких разговоров время проходит незаметно, и партия подходит наконец к этапу. К счастью для Мойши, партия не особенно большая и буйная, и добывание места на нарах достается иногда без больших хлопот. Но временами приходится все-таки круто. Этапы между Сретенском и Зерентуем одни из самых убийственных… Теснота, грязь, холод имеют мало равных себе на протяжении всего великого сибирского "пути следования". Самые названия у этих этапов какие-то зловещие, заранее тревожащие воображение: Ундинские Кавыкучи, Газимурские Кавыкучи ("С Кавыкучей на Кавыкучи – глаза повыпучи", – острят неунывающие арестанты насчет сорокаверстного пути между этими этапами). Дальше – Шалопугино, Тайна, Солнцы, Поперечный Зерентуй, Горный Зерентуй, или, как называют его каторжные, Горький Зелентуй.
Некоторые из этих этапов таковы, что пребывание в, них нескольких десятков человек в течение долгой ночи под замком на взгляд каждого человека, способного мыслить и чувствовать по-человечески, было бы невозможно. Но действительность, а тем паче сибирская действительность, по-человечески не чувствует и не рассуждает, и невозможное оказывается для нее настолько возможным, что в эти тесные, душные, грязные свинюшники загоняется порой людское стадо в полтораста голов! Ворчит кобылка, негодует кобылка, даже протестует, вызывая к себе унтер-офицера и пытаясь внушить ему идеи человеколюбия и справедливости; но кончается дело, разумеется, тем, что кобылка подчиняется своей участи: ее загоняют в свинюшник, куда ставится на ночь вонючий ушат – параша, и запирают на замок. Конвой всегда ужасно трусит и ни за что не соглашается поставить ушат в коридоре, хотя бы и с часовым возле двери. Замок представляется делом более надежным: в караульном доме тогда хоть всю ночь играй в карты, арестанты не кинутся "на ура", не разбегутся, не перебьют солдат. Куда и зачем побегут арестанты в зимнее или осеннее время холодной темной ночью, когда вокруг этапа высятся еще грозные пали, охраняемые наружными часовыми? В тайне души всякому ясно, что, страхи эти – одни пустые фантазии, но официально считают нужным относиться к ним самым серьезным образом.
Уже смеркается, когда партия, голодная и иззябшая, прибегает на один из подобных этапов. С неизбежной перебранкой, бестолковщиной, а подчас и дракой арестанты размещаются в отведенном им стойле. Боруховичу с чадами (бывают и такие случаи) достается место на полу под нарами, возле самой параши, где холодный воздух всякий раз, как растворяется дверь, обдает их, точно ледяной душ. Все детишки страшно кашляют и, не будь у них предварительной многолетней закалки, конечно, давно бы уже насмерть простудились. Но слава богу, что хоть и такое-то место отыскалось: сегодняшний этап всем этапам слава и образец! В маленькой каморке народу набилось, точно сельдей в бочке. Страшно поглядеть, что происходит там, в глубине: лязг цепей, сопровождаемый не менее страшной бранью, визгливые крики женщин, плач детей, тело на теле, голова над головой… Ужасающая духота и жара вверху, холод и сырость, соединенные с невыносимым. смрадом, внизу, под нарами, где тоже копошатся в темноте живые существа, масса детей, мужчин, женщин…
– А нам ведь, детоцки, пофартило сегодня, что мы у дверей захватили место, – пробует утешить себя и ребятишек глубокомысленный Борухович, – там задохнуться можно, право слово, можно… А здесь ничего, вольготно…
Детишки просят есть, но еще не выданы кормовые. Пройдет добрых два часа, пока староста получит их наконец от унтер-офицера и разделит партии. Мойше удается купить у торговок несколько пресных шанег с творогом и картошкой, вскипятить котелок с водой и заварить в нем кирпичного чаю. Последнее достается, впрочем, ценою крупной перебранки с арестантами и даже двух-трех толчков в грудь, так как у единственной печки толпится куча народу и за каждый уголок идет борьба чуть не на жизнь и смерть…
– Куда лезешь, жид пархатый? Разве не видишь, тут прежде тебя люди стоят?
– А цто ж, я разве не человек? Мои дети не такие ж, как твои? Так же пить-есть не хотят?
– Ах ты, чувырло жидовское! Туда же разговаривать! Туда же в человеки лезет!
Но Мойша не сдается и упорно отстаивает свои права человека. На колотушки он внимания не обращает, на брань – того меньше. Вот его "детоцки" напоены, накормлены. Маленькие уже прикорнули и спят, сплетясь друг с другом ручонками и закутавшись во всевозможное арестантское барахло, старшие же еще копошатся, приводя в порядок разные хозяйственные принадлежности. В сознании честно исполненного за сегодняшний день долга сам Борухович лежит, развалившись на шубе, и мечтает. О чем он мечтает? Об умершей жене, счастливом прошлом, о детях, о предстоящем им будущем? Или просто прислушивается к разноголосым звукам, несущимся из того кромешного ада, который представляет собой камера? Нередко, лежа на спине и заложив руки за голову (любимая его поза во время этих вечерних отдыхов), он напевает вполголоса какую-то длинную, монотонную, заунывную арестантскую песню, единственную, которую он знает и в которой можно разобрать только один часто повторяющийся стих:
Шудьба моя нешчашная…
– Эй, жид! – кричит ему кто-то из темноты под нарами. – Не эту ль песню вы пели, как из земли египетской вас выгоняли?
– А ты фараоном был тогда, цто ли? – бойко огрызается Борухович и иногда, в знак высшего презрения, прибавляет как бы про себя любимую свою поговорку: – Тозе, видно, корова и тозе издохнуть хочет.
– Вишь, гадина, еще и лается, – отвечает неизвестный, особенно почему-то обиженный названием фараона. – А слыхали ль вы, братцы, как жиды промеж себя ругаются? Я слыхал. Один говорит другому: "Черт побери твоего батьку!" А тот отвечает: "Врешь, дедку твоего!" Первый ему: "И отца, и деда, и прадеда твоего деда!" Тогда другой озлится и кричит: "Я хочу, чтобы у тебя был дом, и в этом доме было сорок комнат, и в каждой комнате по сорока кроватей. И пусть тебя сорок дней трясет лихоманка, такая, чтоб перебрасывало тебя с кровати на кровать, из комнаты в комнату". Вот как, ребята, жиды бранятся.
– Ну спи, дьявол! – толкает рассказчика жена, и под нарами водворяется безмолвие.
Наконец показался и Горный Зерентуй, конечная цель пути партии. Поднявшись на гору, арестанты увидали в отдалении белую каменную тюрьму и большую прилегающую к ней деревню с церковью посередине. У каждого невольно сжалось сердце от смешанного чувства радости, что окончились долговременные мытарства этапного путешествия, и вместе тревоги за близкое, но неведомое будущее. Вот она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? Ну, никто, как бог, везде люди.
Для Боруховича каторга не была новостью, он переводился только из одной тюрьмы в другую. Тем не менее и у него сердце забилось в груди сильнее. Одни детишки не чувствовали ни малейшей тревоги и радостно указывали друг другу на ярко белевшие стены централа. Они настолько наслышались о Горном Зерентуе, родители их столько мечтали о переводе в эту тюрьму, что она представлялась их воображению чем-то вроде земного рая или по меньшей мере такого места, где не будет больше ни холода, ни голода.
Пешие арестанты прибавили ходу; лошади, почуяв близость стойла, заржали и побежали веселой рысцой. Вот потянулись уже и дома чиновников тюремного ведомства, почтовая контора, каторжное управление; вот наконец и самая тюрьма, большое, красивое, чистое здание, ослепительно сияющее своей белой каменной оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастический замок рыцарских времен, с башнями, амбразурами, рвами, подъемными мостами… Все ново, невиданно для глаза, привыкшего к грязи и неприглядности сибирских этапов. Партия остановилась у ворот в ожидании приемки.
Явился помощник смотрителя, молодой еще человек, небольшого роста, круглый, плотный, приветливый и, видимо, беззаботный по части службы. Принимал он быстро, читая по списку фамилии арестантов, прибавляя к ним по временам безобидные остроты и делая беглый осмотр казенным вещам. Мужчин надзиратели уводили поодиночке в ворота тюрьмы, женщин с детьми пускали в вольные бараки, а некоторых из ребятишек тут же заносили в список кандидатов на помещение в приюте. Дошла очередь и до Боруховича.
– Ну, брат, ты двадцатилетний? За ворота! Тюремный житель! – улыбаясь, прокричал ему помощник.
– А детишек моих в приют отошлете? – робко спросил Мойша, подобострастна держа в руках шляпу и склонив бритую голову.
– Каких детишек?
– А вот этих самых, пятерых… Сын Абрам, одиннадцати лет, и четыре девоцки: десяти, восьми, шести и четырех лет.
– А мать где?
– Мать на том свете. Дорогой померла.
– Вот так фунт! Как же быть? – смутился беспечный чиновник. – Сразу нельзя ведь в приют их отправить… Да постой, брат, постой: ты еврей?
– Еврей, ваше благородие.
– То-то, я смотрю, язык будто недоклепан, – обрадовался помощник, точно отыскав вдруг желанный исход. – Ну так детей твоих, братец, в приют не примут.
– Как не примут?
. – Да так. Приказ получился от попечителя приюта, чтоб еврейских детей был известный только процент; а их и так уж незаконное число. Как же быть? Эй, Трофимов! – обратился он к одному из надзирателей. – Беги, паря, сейчас же к смотрителю, скажи, что я прощу по важному делу. Ну, а ты, голубчик, ступай в тюрьму, нечего тебе тут больше делать.
– Ваше благородие, как же я пойду? Дозвольте дождаться господина смотрителя. Пусть вырешит дело.
Помощник не стал противоречить и, отвернувшись от Боруховича, продолжал приемку других арестантов. Полчаса спустя из-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опираясь на палку, сам смотритель тюрьмы, солидный господин с окладистой черной бородой и неприветливым взглядом исподлобья. Еще не приблизился он и на тридцать шагов к партии, как надзиратель громко прокричал:
– Смирно, шапки долой!
Помощник быстро подошел к смотрителю, сделал под козырек, отдал рапорт и объяснил, почему счел нужным потревожить его.
– Еврейских ребятишек никак нельзя принять, – отвечал тотчас же чернобородый господин, искоса взглянув на униженно стоявшего перед ним Боруховича и на его сомкнувшихся в стороне тесною кучкой детей. Мойша повалился в ноги.
– Ваше вишокоблародие, ваше!.. Куда зе их теперича? Малютки!..
– Встань, встань, чтоб этого не было… Я не бог и не царь, – оборвал его смотритель. – Да и вы все, – обратился он к шпанке, будто сейчас только заметив обнаженные у всех головы, – шапки надеть.
– Ваше вишокоблагородие, как зе теперича?..
– А так же, что не разговаривай и ступай в тюрьму.
– А дети?..
– А что ж я могу сделать? К себе, что ль, на нос посадить? Нельзя принять в приют. Закон!
– Не доложить ли разве заведующему каторгой? – несмело вставил помощник смотрителя.
– О чем?
– Потом? Ты шибко проворна, Сурка… Потом сама увидишь. Как только приедем в Горный Зелентуй, так всех вас, детоцки, в приют возьмут. Это такой хороший дом, такой хороший, что вы и не видали еще такого… Наденут на вас чистые переднички, белые капорчики. Много там и других девочек и мальчиков с вами будет. Весело, хорошо. Тепло и сытно. Только учиться хорошо надо и начальства слушаться.
– А чем кормить там будут?
– Хорошо кормить будут. Хлебом, и говядиной, и щами, и вшем таким.
– И молоком тоже?
– Ну и молоком по праздникам.
– И цаем?
– Вишь, воструха, чего захотела! Ну, даем, не даем, а березовой каши вдосталь дадут.
Среди таких разговоров время проходит незаметно, и партия подходит наконец к этапу. К счастью для Мойши, партия не особенно большая и буйная, и добывание места на нарах достается иногда без больших хлопот. Но временами приходится все-таки круто. Этапы между Сретенском и Зерентуем одни из самых убийственных… Теснота, грязь, холод имеют мало равных себе на протяжении всего великого сибирского "пути следования". Самые названия у этих этапов какие-то зловещие, заранее тревожащие воображение: Ундинские Кавыкучи, Газимурские Кавыкучи ("С Кавыкучей на Кавыкучи – глаза повыпучи", – острят неунывающие арестанты насчет сорокаверстного пути между этими этапами). Дальше – Шалопугино, Тайна, Солнцы, Поперечный Зерентуй, Горный Зерентуй, или, как называют его каторжные, Горький Зелентуй.
Некоторые из этих этапов таковы, что пребывание в, них нескольких десятков человек в течение долгой ночи под замком на взгляд каждого человека, способного мыслить и чувствовать по-человечески, было бы невозможно. Но действительность, а тем паче сибирская действительность, по-человечески не чувствует и не рассуждает, и невозможное оказывается для нее настолько возможным, что в эти тесные, душные, грязные свинюшники загоняется порой людское стадо в полтораста голов! Ворчит кобылка, негодует кобылка, даже протестует, вызывая к себе унтер-офицера и пытаясь внушить ему идеи человеколюбия и справедливости; но кончается дело, разумеется, тем, что кобылка подчиняется своей участи: ее загоняют в свинюшник, куда ставится на ночь вонючий ушат – параша, и запирают на замок. Конвой всегда ужасно трусит и ни за что не соглашается поставить ушат в коридоре, хотя бы и с часовым возле двери. Замок представляется делом более надежным: в караульном доме тогда хоть всю ночь играй в карты, арестанты не кинутся "на ура", не разбегутся, не перебьют солдат. Куда и зачем побегут арестанты в зимнее или осеннее время холодной темной ночью, когда вокруг этапа высятся еще грозные пали, охраняемые наружными часовыми? В тайне души всякому ясно, что, страхи эти – одни пустые фантазии, но официально считают нужным относиться к ним самым серьезным образом.
Уже смеркается, когда партия, голодная и иззябшая, прибегает на один из подобных этапов. С неизбежной перебранкой, бестолковщиной, а подчас и дракой арестанты размещаются в отведенном им стойле. Боруховичу с чадами (бывают и такие случаи) достается место на полу под нарами, возле самой параши, где холодный воздух всякий раз, как растворяется дверь, обдает их, точно ледяной душ. Все детишки страшно кашляют и, не будь у них предварительной многолетней закалки, конечно, давно бы уже насмерть простудились. Но слава богу, что хоть и такое-то место отыскалось: сегодняшний этап всем этапам слава и образец! В маленькой каморке народу набилось, точно сельдей в бочке. Страшно поглядеть, что происходит там, в глубине: лязг цепей, сопровождаемый не менее страшной бранью, визгливые крики женщин, плач детей, тело на теле, голова над головой… Ужасающая духота и жара вверху, холод и сырость, соединенные с невыносимым. смрадом, внизу, под нарами, где тоже копошатся в темноте живые существа, масса детей, мужчин, женщин…
– А нам ведь, детоцки, пофартило сегодня, что мы у дверей захватили место, – пробует утешить себя и ребятишек глубокомысленный Борухович, – там задохнуться можно, право слово, можно… А здесь ничего, вольготно…
Детишки просят есть, но еще не выданы кормовые. Пройдет добрых два часа, пока староста получит их наконец от унтер-офицера и разделит партии. Мойше удается купить у торговок несколько пресных шанег с творогом и картошкой, вскипятить котелок с водой и заварить в нем кирпичного чаю. Последнее достается, впрочем, ценою крупной перебранки с арестантами и даже двух-трех толчков в грудь, так как у единственной печки толпится куча народу и за каждый уголок идет борьба чуть не на жизнь и смерть…
– Куда лезешь, жид пархатый? Разве не видишь, тут прежде тебя люди стоят?
– А цто ж, я разве не человек? Мои дети не такие ж, как твои? Так же пить-есть не хотят?
– Ах ты, чувырло жидовское! Туда же разговаривать! Туда же в человеки лезет!
Но Мойша не сдается и упорно отстаивает свои права человека. На колотушки он внимания не обращает, на брань – того меньше. Вот его "детоцки" напоены, накормлены. Маленькие уже прикорнули и спят, сплетясь друг с другом ручонками и закутавшись во всевозможное арестантское барахло, старшие же еще копошатся, приводя в порядок разные хозяйственные принадлежности. В сознании честно исполненного за сегодняшний день долга сам Борухович лежит, развалившись на шубе, и мечтает. О чем он мечтает? Об умершей жене, счастливом прошлом, о детях, о предстоящем им будущем? Или просто прислушивается к разноголосым звукам, несущимся из того кромешного ада, который представляет собой камера? Нередко, лежа на спине и заложив руки за голову (любимая его поза во время этих вечерних отдыхов), он напевает вполголоса какую-то длинную, монотонную, заунывную арестантскую песню, единственную, которую он знает и в которой можно разобрать только один часто повторяющийся стих:
Шудьба моя нешчашная…
– Эй, жид! – кричит ему кто-то из темноты под нарами. – Не эту ль песню вы пели, как из земли египетской вас выгоняли?
– А ты фараоном был тогда, цто ли? – бойко огрызается Борухович и иногда, в знак высшего презрения, прибавляет как бы про себя любимую свою поговорку: – Тозе, видно, корова и тозе издохнуть хочет.
– Вишь, гадина, еще и лается, – отвечает неизвестный, особенно почему-то обиженный названием фараона. – А слыхали ль вы, братцы, как жиды промеж себя ругаются? Я слыхал. Один говорит другому: "Черт побери твоего батьку!" А тот отвечает: "Врешь, дедку твоего!" Первый ему: "И отца, и деда, и прадеда твоего деда!" Тогда другой озлится и кричит: "Я хочу, чтобы у тебя был дом, и в этом доме было сорок комнат, и в каждой комнате по сорока кроватей. И пусть тебя сорок дней трясет лихоманка, такая, чтоб перебрасывало тебя с кровати на кровать, из комнаты в комнату". Вот как, ребята, жиды бранятся.
– Ну спи, дьявол! – толкает рассказчика жена, и под нарами водворяется безмолвие.
Наконец показался и Горный Зерентуй, конечная цель пути партии. Поднявшись на гору, арестанты увидали в отдалении белую каменную тюрьму и большую прилегающую к ней деревню с церковью посередине. У каждого невольно сжалось сердце от смешанного чувства радости, что окончились долговременные мытарства этапного путешествия, и вместе тревоги за близкое, но неведомое будущее. Вот она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? Ну, никто, как бог, везде люди.
Для Боруховича каторга не была новостью, он переводился только из одной тюрьмы в другую. Тем не менее и у него сердце забилось в груди сильнее. Одни детишки не чувствовали ни малейшей тревоги и радостно указывали друг другу на ярко белевшие стены централа. Они настолько наслышались о Горном Зерентуе, родители их столько мечтали о переводе в эту тюрьму, что она представлялась их воображению чем-то вроде земного рая или по меньшей мере такого места, где не будет больше ни холода, ни голода.
Пешие арестанты прибавили ходу; лошади, почуяв близость стойла, заржали и побежали веселой рысцой. Вот потянулись уже и дома чиновников тюремного ведомства, почтовая контора, каторжное управление; вот наконец и самая тюрьма, большое, красивое, чистое здание, ослепительно сияющее своей белой каменной оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастический замок рыцарских времен, с башнями, амбразурами, рвами, подъемными мостами… Все ново, невиданно для глаза, привыкшего к грязи и неприглядности сибирских этапов. Партия остановилась у ворот в ожидании приемки.
Явился помощник смотрителя, молодой еще человек, небольшого роста, круглый, плотный, приветливый и, видимо, беззаботный по части службы. Принимал он быстро, читая по списку фамилии арестантов, прибавляя к ним по временам безобидные остроты и делая беглый осмотр казенным вещам. Мужчин надзиратели уводили поодиночке в ворота тюрьмы, женщин с детьми пускали в вольные бараки, а некоторых из ребятишек тут же заносили в список кандидатов на помещение в приюте. Дошла очередь и до Боруховича.
– Ну, брат, ты двадцатилетний? За ворота! Тюремный житель! – улыбаясь, прокричал ему помощник.
– А детишек моих в приют отошлете? – робко спросил Мойша, подобострастна держа в руках шляпу и склонив бритую голову.
– Каких детишек?
– А вот этих самых, пятерых… Сын Абрам, одиннадцати лет, и четыре девоцки: десяти, восьми, шести и четырех лет.
– А мать где?
– Мать на том свете. Дорогой померла.
– Вот так фунт! Как же быть? – смутился беспечный чиновник. – Сразу нельзя ведь в приют их отправить… Да постой, брат, постой: ты еврей?
– Еврей, ваше благородие.
– То-то, я смотрю, язык будто недоклепан, – обрадовался помощник, точно отыскав вдруг желанный исход. – Ну так детей твоих, братец, в приют не примут.
– Как не примут?
. – Да так. Приказ получился от попечителя приюта, чтоб еврейских детей был известный только процент; а их и так уж незаконное число. Как же быть? Эй, Трофимов! – обратился он к одному из надзирателей. – Беги, паря, сейчас же к смотрителю, скажи, что я прощу по важному делу. Ну, а ты, голубчик, ступай в тюрьму, нечего тебе тут больше делать.
– Ваше благородие, как же я пойду? Дозвольте дождаться господина смотрителя. Пусть вырешит дело.
Помощник не стал противоречить и, отвернувшись от Боруховича, продолжал приемку других арестантов. Полчаса спустя из-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опираясь на палку, сам смотритель тюрьмы, солидный господин с окладистой черной бородой и неприветливым взглядом исподлобья. Еще не приблизился он и на тридцать шагов к партии, как надзиратель громко прокричал:
– Смирно, шапки долой!
Помощник быстро подошел к смотрителю, сделал под козырек, отдал рапорт и объяснил, почему счел нужным потревожить его.
– Еврейских ребятишек никак нельзя принять, – отвечал тотчас же чернобородый господин, искоса взглянув на униженно стоявшего перед ним Боруховича и на его сомкнувшихся в стороне тесною кучкой детей. Мойша повалился в ноги.
– Ваше вишокоблародие, ваше!.. Куда зе их теперича? Малютки!..
– Встань, встань, чтоб этого не было… Я не бог и не царь, – оборвал его смотритель. – Да и вы все, – обратился он к шпанке, будто сейчас только заметив обнаженные у всех головы, – шапки надеть.
– Ваше вишокоблагородие, как зе теперича?..
– А так же, что не разговаривай и ступай в тюрьму.
– А дети?..
– А что ж я могу сделать? К себе, что ль, на нос посадить? Нельзя принять в приют. Закон!
– Не доложить ли разве заведующему каторгой? – несмело вставил помощник смотрителя.
– О чем?