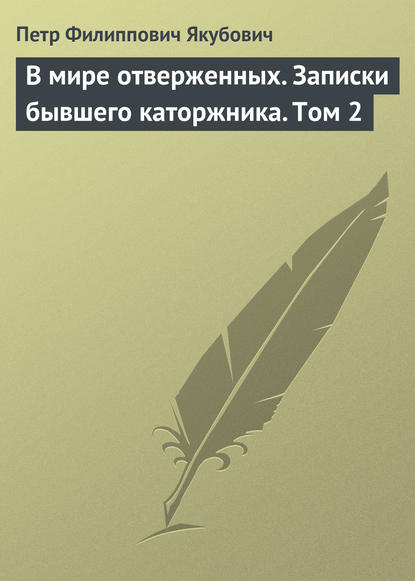По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что касается арестантов, то нечего и говорить, что они производили на нее в первое время лишь приятное, подкупающее впечатление; знакомство ее с ними (как и мое в Кадае) ограничивалось шапочными поклонами при встречах на улице. И Таня с жаром говорила порой, обращаясь ко мне:
– Да разве это не те же люди, что и мы с тобой, что и все другие? Тихие, добрые люди, если только не причинять им зла. Господи, а в России-то как рисуют себе каторжников. Я первая побежала бы сломя голову прочь, если бы повстречала одного из них на московских улицах!
Дуняшу Подуздову, о несчастном романе которой я успел уже рассказать сестре в. общих чертах, она, не долго думая, приняла в объятия и осыпала поцелуями, чем, разумеется, привела каторжную дикарку в неописуемое замешательство.
– Дуняша, милая, – говорила Таня, сажая ее рядом с собою, – не унывай, голубушка, будь мужественна… Все перемелется – мука будет. Я глубоко уверена, что все это одно лишь глупое недоразумение, которое не трудно разъяснить. И знаешь ли, какой план пришел мне в голову: в первый же раз, как поеду в Зерентуй, я зайду к заведующему и сама поговорю с ним о твоем деле. И раз только он вникнет в него – а уж я позабочусь об этом! – все тревоги ваши и беды сразу окончатся… Вот ты увидишь! Не я буду, если этой же осенью не повенчаю тебя с твоим женихом… Дай только мне отдохнуть немного, прийти в себя – и я все это непременно устрою!
Пришлось моей гостье познакомиться и с Костровым, к которому, по прибытии в подведомственный ему район, она обязана была лично явиться.
– Что ж, – благодушно сказала она, вернувшись домой, – я не думаю, чтоб он был злой человек и сознательно делал дурные вещи. По крайней мере он разговаривал при мне с одним арестантом, и тот держался так свободно, точно с равным себе.
Я был уверен, что жалкий вид арестантских землянок произведет на Таню подавляющее впечатление, и с некоторой робостью повел ее в один ясный воскресный день знакомиться со старой Подуздихой; но, к удивлению моему, и этот визит сошел как нельзя лучше. Да и то сказать: природа вокруг так обольстительно зеленела и сверкала, июньское солнце так причудливо золотило все своими теплыми ласкающими лучами, что и сама нищета глядела в этот день красивее и довольнее обыкновенного.
– Плохо, конечно, живется им, беднягам, – так резюмировала сестра впечатления своего осмотра землянок, – но сколько есть на Руси совершенно свободных, никакого наказания не несущих людей, которым живется, однако, ничуть не слаще и не легче. Да если верны твои рассказы о тюрьме, то есть не вызваны желанием утешить меня, смягчить краски, то и там жизнь рисуется мне теперь не такой уж страшной, как прежде..
– Ну, словом, Таня, – пошутил я в заключение, – ты ехала сюда утешать и ободрять страдальцев, а нашла заплывших жиром буржуев, которым надо читать проповедь о страданиях меньшого брата!
С доброй улыбкой она закрывала мне рукой рот и, надев шляпку, тащила меня гулять по сопкам. Бродя по окрестностям, тщетно искали мы защиты от палящих лучей солнца. Тощие кусты боярышника и тальника, раскинувшиеся вдоль правой возвышенной стороны Кадаи, давали лишь слабое подобие тени, и если мы все-таки любили среди них скитаться, то главным образом из-за ландышей, которые росли там в удивительном изобилии. Без конца, без жалости, словно в каком-то опьянении, рвали мы эти милые душистые цветы и целыми корзинами таскали к себе в комнату. Встав иногда рано, на заре, когда сестра еще крепко спала, я приносил огромные, обрызганные свежей росой букеты из ландышей и будил ее, осыпая цветами. И, едва успев напиться чаю, торопясь и волнуясь, мы бежали собирать их вместе…
Не любила Таня лишь той части горы, где помещался рудник с его колпаками, светличками и другими строениями. Мысль о том, что в этих местах лежат подземные норы, где люди во тьме и сырости долбят холодный, бездушный камень, поражала ее страхом, наполняла болью. Увидав еще, издали зловещие постройки, она забывала все свои недавние рассуждения о том, что в каторге людям живется значительно легче, нежели свободным рабочим на фабриках, и тащила меня прочь, возможно дальше оттуда. А раз, когда в направлении рудника послышался какой-то подозрительный звук, показавшийся ей лязгом кандалов, она, вся побледнев, с криком неподдельного ужаса кинулась бежать вниз с горы, спотыкаясь о камни и корни кустарника. Напрасно я, с своей стороны, кричал, догоняя ее, что она ошиблась, что в рудник не водят закованных арестантов, – она не слушала моих уверений и, не уставая, бежала вперед.
– Ну и нервозная ж ты, будто кисейная барышня, – пробовал я пристыдить ее, когда наконец догнал и мы, замедлив шаги, пошли рядом.
Она молчала.
Долго не удавалось нам побывать на вершине гиганта утеса, который высится по левую сторону Кадаи и с которого, по рассказам местных жителей, можно видеть гребни гор, стоящих за рекой Аргунью, в китайских владениях. То слишком поздно выбирались мы из дому и рисковали быть застигнутыми темнотой в дороге, то на пути встречал нас резкий, пронизывающий холодом ветер, то какая-нибудь иная неудача. Неудовлетворенное любопытство только пуще разжигалось; шутя, мы начинали фантазировать, что с вершины этой таинственной горы открывается, быть может, вид на райский, никому не ведомый уголок, совсем не похожий на мрачное дно кадаинской котловины с ее бедной, печальной деревушкой, тощими лугами и однообразными сопками… И вот, выйдя однажды на прогулку раньше обыкновенного, мы решили во что бы то ни стало достигнуть Загадочной черты. Чем ближе мы к ней подходили, тем сильнее волновались; топча увядающие ургуи, сарану и другие цветы, задыхаясь, мы почти бежали вперед….Что-то увидим сейчас?
Я первый взбежал наверх и замер в невольном восхищении: прекрасная, широкая долина раскидывалась глубоко внизу, под ногами… В сизом тумане вечера, чуть озаренные закатом, синели и краснели убегающие вдаль цепи гор, и за самой дальней из них смутно вилась, точно прядь седых волос, лента Аргуни… На мгновенье чем-то родным и мучительно близким, воздухом свободы пахнуло на душу от этой картины…
– Смотри, ведь это… это крест там, внизу? – крикнула вдруг Таня, прерывая торжественное молчание и указывая на один из холмов, лежавших вправо под нашими ногами: – Смотри, и не один даже, а несколько!.. Действительно, можно было различить два или три высоких креста, и я сразу вспомнил их происхождение. Я тут же рассказал Тане все, что знал об одиноких кадаинских могилах, и покаялся, что не собрался до сих пор посетить их.
– Так сию же минуту спустимся туда! – предложила моя увлекающаяся спутница. Но было уже слишком поздно для такого предприятия, да и прямого спуска к холму мы не знали. Солнце уже совсем закатилось, и пора было подумать о возвращении домой. Мы оба так расхрабрились, что решили сойти к деревне по крутой стороне утеса, как представлявшей кратчайший путы Мы воображали, что спускаться вниз гораздо легче, нежели подниматься вверх. Не сделали мы, однако, и пятой части всего пути, как уже поняли свою ошибку: спуск оказался необыкновенно крутым и опасным для таких неопытных туристов, и счастье еще, что мы выбрали случайно не самое трудное место. Приходилось временами почти перескакивать с одного уступа на другой, стоявший внизу, причем Таню я переносил туда на руках; колючий куст шиповника нередко обманывал зрение, и, не рассчитав ни высоты, ни прочности уступа, я кубарем летел вниз, увлекая за собой кучу каменьев и падением своим вырывая из уст сестры крик ужаса. С трудом удавалось мне уцепиться за какой-нибудь куст или камень, нащупать твердую почву и разглядеть, куда идти дальше. Жутко было сходить вниз, но еще страшнее казалось вернуться наверх, и мы продолжали спускаться, я – обливаясь потом, с царапинами и порванной одеждой, спутница моя – бледная и пугливо притихшая… И лишь четверть часа спустя, когда мы очутились наконец у подошвы угрюмого утеса, среди груды его развалин, окрестность опять огласилась веселым смехом и торжествующими криками!
В один из ближайших после этого дней, прежде чем отправиться на могилу поэта, мы пошли взглянуть на домик, в котором он жил и умер и который, как сказали нам, существовал еще в полуразрушенном виде. Узнав, что дом принадлежит сельскому старосте, мы придумали и предлог для осмотра: намерение купить дом.
Сам хозяин, атлет-мужчина с умным, благообразным лицом, повел нас в покинутое жилье. Загремел замок, дверь заскрипела на ржавых петлях, и мы очутились в просторной полутемной комнате, куда свет пробивался сквозь один наполовину оторванный ставень (остальные были забиты наглухо). Сеней у избы давно не было. Голые бревенчатые стены промозгли и прогнили. На нас пахнуло могильной сыростью, и со всех сторон хлынули грустные предания прошлого…
– Сколько же просите вы за эту развалину?
– Шестьдесят рублей. Здесь еще Михаил Ларионович Михайлов жили, здесь и умерли… – прибавил хозяин, очевидно хорошо понимая настоящую цель нашего посещения.
– Как, вы даже имя и отчество помните?
– Как живого его перед собой вижу! Славный был барин, добрый, хотя собой и невзрачный… Мне о ту пору лет десять было, как он помер; братан мой и могилу копал.
Мы осыпали рассказчика всевозможными вопросами, но ответы, как и следовало ожидать, оказались мало любопытными, имеющими слишком общий характер. Был добрый барин… Денег не, жалел и никогда не запирал на замок стола, в котором они лежали ("кучи, кучи бумажек!")… Все читал больше, или писал… Книг "множество" было.
Не больше сообщили нам потом и другие деревенские старожилы. Память о тех еще недалеких сравнительно временах, когда кадаинским рудником правил знаменитый приспешник Разгильдеева – Кабаков и под его ферулой находились Чернышевский, Михайлов и польские повстанцы шестьдесят третьего года, сохраняется среди них уже довольно смутно. Да и то сказать: жили они здесь изолированной от внешнего мира жизнью, проводя время главным образом, в обществе книг, и что же характерного могли знать о них крестьяне?
Мне неизвестно, каким здоровьем пользовался поэт до своего переселения в Сибирь; в Иркутске он перенес, кажется, брюшной тиф; но развитие чахотки, унесшей его в могилу после одного лишь года пребывания в Кадае (1865 год), местные обыватели приписывали исключительно дню похорон душевнобольного ссыльного Кароли, когда Михаил Ларионович не то застудил, не то повредил себе ногу. С этого времени болезнь пошла быстрыми шагами, и роковой конец стал неизбежен…
Путь к могиле лежал мимо знакомого уже нам гиганта утеса. Здесь, среди гранитных обломков, мы повстречали целый лес свежераспустившихся марьиных кореньев; отцветающие ургуи также виднелись во множестве. Вспугнутая нашими" голосами семья ястребов с тревожными криками поднялась из расселины скалы и стала виться над нашими головами; вдали протяжно и уныло перекликались кукушки, а вверху, в синем небе, не умолкая разливалось торжественное пение жаворонков. Набрав по дороге огромный пук цветов, Таня уселась на одну из гранитных глыб, и я не без удивления увядал, как из этих скромных, незатейливых цветов, ландышей, сараны, ургуев и марьиных кореньев под ее проворными и искусными пальцами вырастал красивый, пышный венок. Мы продолжали затем дорогу.
Малозаметный издали холм оказался вблизи высоким утесом, взобраться на который стоило немалого труда. Не переводя духу, мы кинулись к стоявшим на вершине огромным крестам. Их было всех три, но один, вероятно давно уже поваленный бурей и весь источенный червями, лежал на земле…
Польская надпись на нем говорила, что здесь покоится прах "выгнаньца" 1863 года Волошинского… Один из стоявших крестов принадлежал упомянутому выше Кароли, на другом – самом высоком – значилось по-польски же: "Wygnaniec polski 1831 roku Litynsky".[24 - "Польский изгнанник 1831 года Литинский" (польск.).]
– А где же Михайлов? – в один голос спросили мы друг друга и инстинктивно направились к краю обрыва, где беспорядочно наваленная груда каменьев (породы грубого мрамора) обозначала, по-видимому, чью-то безымянную могилу. – Не здесь ли?
Расспрашивая потом кадаинских стариков и сличая их показания, мы убедились в верности этой догадки. Некогда на этом месте также стоял крест, поставленный родственниками поэта, но вот уже лет десять, как он упал и куда-то исчез – по всей вероятности, украден кадаинцами на дрова (благо последние представляют в безлесной Кадае ценный предмет)…
Положив венок на могилу, долго бродили мы с грустными думами по утесу, осматриваясь кругом и любуясь открывавшимися с него видами. Глаз приятно поражается прежде всего обилием растущих тут незабудок: весь холм буквально залит ими и синеет под ногами, как огромный голубой ковер… Глубоко внизу по темной лощине тянется серая лента деревни, а с других сторон по краям горизонта высятся унылые остроконечные сопки, словно стерегущие невозмутимый сон мертвецов.
Грустно и сиротливо здесь в долгие забайкальские зимы; утес, от низа до самой вершины, занесен сыпучим снегом и "лишь волками голодными навещаем порой".[50 - Из стихотворения П. Ф. Якубовича "Памяти Павла Осиповича Иванова" ("Стихотворения". Л., "Советский писатель", 1960, стр. 216).] Но зато в остальные времена года это одна из самых живописных в Кадае местностей. Миром и поэзией веет от гордо уединенных могил, вырытых далеко от чуждых и враждебных взоров. В ясные, солнечные дни воздух оглашается несмолкаемыми бесчисленными трелями жаворонков, привольно купающихся в небесной лазури, и под их торжественные звуки невольно вспоминаются стихи М. Л. Михайлова, помещенные в "Отечественных записках" 1871 года под скромными инициалами М. М.:?
Вышел срок тюремный —
По горам броди!..
Со штыком солдата
Нет уж позади.
Воли больше…
Что же
Стены этих гор
Пуще стен тюремных
Мне теснят простор?
Там, под темным сводом,
Тяжело дышать,
Сердце уставало
Биться и желать.
Здесь, над головою,
Под лазурный свод
Жаворонок вьется
И поет – зовет…[25 - С осени 1894 года нарисованная выше картина изменилась. Прибавилась еще пятая могила – Павла Осиповича Иванова, погибшего в самоотверженной борьбе с эпидемией брюшного тифа, косившей в тот год кадаинское население (Иванов был студент-медик, осужденный в 1882 году в каторгу по одному из политических процессов). По случаю этих похорон мне с товарищами удалось, кстати, ремонтировать и остальные могилы: поваленный крест был поднят, над Михайловым водружен новый, и на высоком утесе образовалась целая семья крестов… Местное каторжное начальство получило за это нагоняй от высшего, со строгим запросом: на каком основании было дозволено похоронить Иванова не на общем тюремном кладбище? Одно время мы боялись даже, что могилу разроют и гроб перенесут… Этого не случилось, но если бы еще кто-нибудь из нас умер, ему не пришлось бы уже лежать на знаменитом утесе, рядом с прахом поэта… Теперь, двенадцать лет спустя, изменилась ли картина? Нет ли опять упавших крестов? Нет ли и вовсе исчезнувших? (Это примечание написано автором в 1906 году.)]
Как золотой, блаженный сон, промелькнуло лето! В одно прекрасное августовское утро мы были застигнуты совершенно врасплох известием, что рудник посетил наконец тот важный генерал, приезда которого кобылка уже не один год поджидала с таким нетерпением. Однако не успели мы приготовиться к событиям, как они стали уже делом прошедшего… Накануне, ровно в одиннадцать часов вечера, генерал "прибежал" в Кадаю, а к следующему полудню его уже не было. И за этот короткий промежуток он успел совершить великое множество дел: выспаться, позавтракать, на месте ознакомиться с каторжным вопросом, сделать осмотр тюрьмы, наконец, дать местной администрации необходимые указания и инструкции. С такой же точно стремительностью и основательностью осмотрены были, очевидно, и прочие рудники, и важный сановник поспешил отбыть в Петербург, оставив по себе впечатление блеска, грома и тумана. Рассказывали, что сам заведующий каторгой ходил в эти дни низко понурив голову, и не мудрено: на какое-то его замечание последовал суровый, раздражительный ответ в присутствии чуть ли даже не арестантов:
– Я приехал не советы выслушивать, а учить!
За всем тем мелкая каторжная администрация ликовала.
– Пронеслась гроза – гуляем! крикнул весело Костров, промчавшись куда-то мимо окон моей квартиры на паре своих рыжих и фамильярно послав мне воздушный поцелуй.
Правда, многие из арестантов, собиравшихся обратиться к генералу с различными просьбами и жалобами и не успевших сделать это, имели огорченный вид, но скоро и они нашли утешение в философических размышлениях.
– Ну, в этот раз не пофартило – пофартит в другой. Он ведь, говорят, на Кару теперь побежал, а взад поедет – беспременно опять к нам заглянет. Главная беда, не подпускали близко собаки эти – надзирателишки, а то бы он вник в кажное дело, потому генерал самый настоящий: и по закону и против закона, говорят, власть ему дадена! И к нашему брату доброта такая в лице!.. А смотрителишек не обожает. Так и бреет их, братцы мои, так вот и бреет! Взад поедет – тогда уж. мы его так не пропустим.
Но вот однажды, рано поутру, – мы с Таней только что поднялись с постелей – от хозяев пришли сказать нам, что какая-то женщина давно уже дожидается в сенях нашего пробуждения. Мы велели немедленно впустить ее. Едва успев переступить порог, женщина со слезами повалилась мне в ноги. В маленькой сморщенной старушонке я с трудом узнал нашу приятельницу Подуздиху.
– В чем дело? Что случилось?