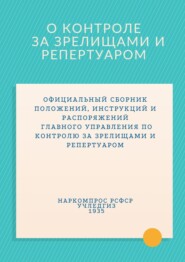По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моховая, 9-11. Судьбы, события, память
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
С самого первого посещения аудиторного корпуса МГУ на Моховой появилось обстоятельство, которое тревожило мою душу.
Это была малозаметная табличка из черного металла, висевшая у входа в так называемый «новый» корпус МГУ. Она оповещала, что здание построено в 1833 – 1836 годах архитектором Евграфом Дмитриевичем Тюриным. Фамилия моей матери тоже была – Тюрина. Только много лет спустя, занимаясь родословной и найдя общих родственников, я установила, что отец Евграфа Дмитриевича, архитектор, вольноотпу-щеник фрейлины Измайловой, Дмитрий Андреевич Тюрин – наш общий предок. Евграф Дмитриевич Тюрин приходился родным братом моего прямого предка Леона Дмитриевича Тюрина. Кроме университетского корпуса, библиотеки при нем и церкви Св. Татьяны Евграф Тюрин выстроил Богоявленский храм в Елохове, возвёл собственный дом на Знаменке, 5, где сейчас… галерея А. Шилова (В прошении Тюрин написал: «Дом сей будет украшением Боровицкого холма»). Он восстанавливал Архангельское, Демидовский дворец (ныне – Президиум Академии наук). Еще до братьев Третьяковых Евграф Тюрин пытался подарить Московскому Университету уникальную общедоступную галерею из своей коллекции.
Коллекция его состояла из 415 картин «всех художественных школ Европы» Но, видимо, эта демократическая идея опережала свое время – место для галереи не было выделено. Обо всём этом я написала в монографии «Евграф Тюрин, архитектор и коллекционер», вышедшей в 2005 году в Издательстве УРАО.
Отправляя меня и сестер учиться в Москву, мама говорила, что в Москве даже воздух дает образование. Я потом часто вспоминала её высказывание. Этим «воздухом образования» для меня, кроме МГУ, были сами москвичи, московская история, которой дышат улицы, храмы, дома, музеи, выставки, архитектура, экскурсии, даже мемориальные доски и брусчатка мостовых. Но прежде всего – друзья, однокашники. Общение с ними дарило самые различные открытия жизни.
Помню, например, Аню Масс, дочку известного театрального сценариста Владимира Масса. Она училась на заочном, мы познакомились и дружили. Она жила в знаменитом «вахтанговском» доме, в Левшинском переулке. Анна доставала мне билеты в Вахтанговский театр и рассказывала чудесные «Вахтанговские» истории из 20-х годов. Например, как в голодной и холодной Москве тех лет актрисы студии, боготворя своего режиссера Вахтангова и зная, что ему нравятся их наряды типа «черная юбка и белая блузка», ухитрялись каждый вечер кипятить в золе свои единственные белые кофточки, крахмалить их, а утром – гладить горячим чугунным утюгом с раскаленными углями внутри. Да что там блузки! Как рассказывала Анна – прикажи он только броситься из окна – все бы и бросились. Такое было отношение к кумиру.
Дочка известных кинорежиссеров-документалистов Марина Челакова, тоже заочница, рассказывала мне о киносъемках, водила на выставки импрессионистов – с тех пор это мое непреходящее увлечение. Про напившихся молодых людей Марина говорила: «натюрморт». Это выражение мне казалось словесным изыском, которым щеголяли истинные москвичи еще со времен по-своему раскованного Серебряного века. Хотелось тоже сказать кому-нибудь небрежно: «натюрморт». Но было некому.
Оксана Кручинина, моя одногруппница, приглашала в свою уютную, по-московски гостеприимную квартиру – они жили на Миусах, в Доме Композиторов. В этом доме всегда звучала музыка (тихая или – громкая, смотря на каком этаже играли).
Саша Балинов (из моей 6-й группы) неустанно агитировал нас посещать выставки, объясняя, что если пройти по студенческому билету – то почти даром. Расход вроде небольшой, а образовательный эффект – огромный
Света Митина приглашала в свой дом – рядом с кинотеатром «Ударник», позднее его называли «дом на набережной». Ее отец был известный академик философии. Их квартира поражала мое воображение своим масштабом, мягкой мебелью, обитой черной кожей, и огромными книжными полками. Строгость и громоздкость казенной мебели в их квартире напоминала мне интерьеры известных картин и фотографий на тему «Ленин в Кремле». Библиотека была огромна, и Света давала подружкам любую книгу домой. Правда, взрослые велели ей вести запись «абонентов». Ведь книги были в огромном дефиците, по Москве даже ходили стишки: «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом. Тот безнадежный идиот, кто на дом книги раздаёт».
В их огромной квартире, по моде тех времен, кухонка была крошечная. Но – в ней стоял небольшой рефрижератор (диковинка тех лет! Я впервые такое увидела), а в нем – продукты из так называемой «кремлевки», и даже – готовые обеды оттуда же. По необычайно низкой цене – на всю семью и даже на гостей – хватало. Их брали по талонам из «кремлевской столовой», филиал которой находился здесь же, рядом, в подвале гастронома, кажется. Света угощала меня сервелатом, а это была уж подлинная диковинка.
Много позже, уже в 80-х, мой однокурсник Дмитрий Урнов расскажет мне, как он был на конференции любителей фантастического романа-предостережения Дж. Оруэлла «1984» и повести-предостережения «Скотный двор». На конференцию собирались, кажется, раз в пять лет – обсудить, что же сбылось в СССР из предсказаний писателя. Многое сбывалось, но в такую из ряда вон выходящую практику, как распределение продуктов, никто из иностранцев поверить не мог. Было непонятно, почему в XX веке какие-то люди на правительственных «чайках» или на более скромных машинах спешат в закамуфлированный, отделанный керамической плиткой подвал за финской колбасой и копченой рыбой, маринованными огурцами и краснодарским чаем? Ведь на Западе это без проволочек может купить каждый клерк?!. А здесь вот – на правительственных «чайках»… «Слетаются голодные чайки» – как однажды пошутил писатель Леонид Лиходеев.
Но Урнов, зная, что именно эти из ряда вон выходящее подвалы с продовольствием «для избранных чиновников» существуют в СССР – на фоне пустых прилавков в обычных магазинах – ждал дискуссии. Ждал с ужасом, ибо, по Пушкину (см. письмо Вяземскому, май 1826 г.): можем сами ругать отечество, но нам досадно, когда это делает иностранец. Помощь пришла, откуда он и не ждал. Самый яростный из нападавших иностранцев вдруг громко заявил: «Такого не может быть. Это, наверное, единственное, в чем Оруэлл ошибся!» Вот как бывает.
Друзья приглашали нас в общежитие на Стромынке, на концерты артистов Большого театра. Это было незабываемо.
На сцене студенческого клуба на Моховой играли актёры Вахтанговского театра и театра им. Моссовета. Блистали легендарные Мансурова и Марецкая.
Здесь же я увидела первый в моей жизни капустник, очень смешной для наших пятидесятых: сюжетом его был. не удивляйтесь. советс-кий стриптиз!
На сцену выходила симпатичнейшая, по русской моде – русая и крепко сбитая (коня на скаку остановит), девушка. Все, как положено, – валенки, телогрейка, шапка-ушанка.
Звучала несколько развязная музыка. Девушка одаряла зал обаятельной, неотразимой, но всё же – извиняющейся улыбкой, на ходу делая несколько скованных па. Правда, с небольшим, но – тоже извиняющимся, намеком на развязность.
Затем, как бы нехотя, она скрывалась за ширмой. Музыка звучала всё призывнее и все громче. Публика видела, как эта невидимая стриптизерша вешала на кромку ширмы, один за другим, элементы своей одежды. Саму девушку не видать. Только – свешиваются ватник, шарф, ушанка. С краешка ширмы, на полу, невидимая рука артистки выставила валенки. Музыка гремит. Это – кульминация. Затем так же невидимо происходит одевание. Зрители – в курсе процесса, так как вещи исчезают в той же невидимой последовательности.
Наконец – заключительные аккорды и улыбающаяся, обаятельная стриптизерша, в полной прежней амуниции, выходит из-за ширмы. Она удаляется все с той же привлекательно-призывной улыбкой и скованно-несмелыми па, не лишёнными претензий на отчаянную смелость.
С тех пор и я научилась делать капустники.
А в 1957-м году знаменитый французский актер Жерар Филипп (вечно молодой Фанфан-Тюльпан) приехал в Москву, в составе кинематографической делегации Франции, на фестиваль французских фильмов. Какие очереди за билетами мы выстаивали, чтобы посмотреть на Даниэль Дарье, на Симону Синьоре и, конечно же, на него, на неповторимого, божественного Фанфан-Тюльпана! А он… Он побывал в ЦУМе, удивился нашему «ширпотребу», накупил грубоватых женских ночных рубашек и другого сногсшибательного женского белья, рассчитанного на наши морозы и еще – на послевоенную нашу бедность. А потом устроил в Париже выставку всего этого. О, напрасно и неосмотрительно он это сделал!
Да откуда же ему было знать о разящем русском народном юморе? Вспомним гоголевское: выражается крепко русский народ. Вот народ и выразился: с тех пор самая теплая принадлежность дамского таулета, рассчитанная на тридцатиградусные морозы, с начесом из байки, называлась у многих московских дам ни много ни мало «жерарами». («Вот вчера купила себе в ГУМе жерары»). Правда, время подобных товаров – ушло, как вздох. А блестящее имя блестящего актёра оказалось прикованным к высмеянным им шедеврам советского «десу».
Помню ещё, как однажды в клубе на Моховой был вечер, на который все стремились попасть. Это был визит редакции французской коммунистической газеты «Юманите». В составе делегации были Эльза Триоле и Луи Арагон, а сопровождала их таинственная Лиля Брик, вошедшая в наши сердца вместе со строками Маяковского: «Лиличка! Вместо письма» и еще – «Если я чего написал, если чего сказал, – тому виной – глаза-небеса, любимой моей глаза: круглые да карие, горячие до гари. Я почти ничего не слышала, о чем говорили, все разглядывала Лилю Брик. Помню только один вопрос из зала: «Почему в Вашей коммунистической газете «Юманите» так много, по буржуазному образу и подобию, – рекламы?» Помню и ответ: «А потому, что надо кушать». Это было мало понятно в те времена: «Разве можно, – думали мы, – желание «кушать» осуществлять путём печатания пошлого рекламного буржуазного текста?» Но как все изменилось – реклама нас теперь буквально преследует.
А тогда. Вот Она, «Лиличка вместо письма», сидит почти рядом. Божество Маяковского. Рядом со мной!
О том, что появлялось и другое божество, нам пока знать было не положено. Но очень скоро ветер оттепели принесет нам и это знание. На вечерах декламации, которые стали устраивать двое наших любителей этого жанра – Валентин Непомнящий и Алла Бирюкова, прозвучали доселе не публиковавшиеся в Советском Союзе стихи Маяковского «Татьяне Яковлевой». Валентин Непомнящий вскидывал копну своих черных кудрей и, обжигая публику своим горящим, синим, полыхающим взглядом, гордо читал:
Я все равно
Тебя когда-нибудь
Возьму!
Одну – или вдвоем
С Парижем!!!
Это было таинственно и требовало пояснений. Их не было, и оттого все воспринималось еще острее.
Алла Бирюкова читала Блока. Потом снова Валентин Непомнящий – он читал «Кёльнскую яму» Бориса Слуцкого: «О, бюргеры Кёльна, да будет вам срамно! О, граждане Кёльна, как же так? Вы, трезвые, честные, где же вы были, Когда, зеленее, чем медный пятак, Мы в Кёльнской яме с голоду выли?»
А потом Непомнящий неподражаемо и романтично пел: «Выпьем за Марикиту, дочь звонаря в Толедо, в танце – как ветер, в любви как пламя, лучше и краше девушки нет в Севилье, во всей Севилье». Это четверостишие, как раз, было для меня вполне приемлемо: почему же не похвалить девушку? Но последующий куплет казался мне совершенно надуманным и каким-то нежизненным: «Выпьем за Маргариту, дочь звонаря в Малаге, – та, что сегодня любит, конечно, лучше и краше той, что вчера любила, вчера любила…». Дело в том, что мои родители прожили в любви и восхищении друг другом более полувека, и именно подобные отношения были для меня нормой. А тут: «сегодня» или «вчера». Зачем петь про такое, неестественное?
Валентин проживает тоже в долгом и счастливом браке с моей подругой юности, талантливой актрисой и неподражаемой певицей Татьяной Ивановой, а песенку про Марикиту в упор не помнит, хотя я и пыталась ему ее напеть. Зато Алла Бирюкова все это помнит.
Некоторое время я тоже жила в общежитии на Стромынке, а на 5 курсе – на Ленинских горах. На Стромынке, в одной со мною комнате жила немка из ГДР Мария, очень добродушная и дружественная. Она удивила меня тем, что сказала однажды: «Вот вы, русские, живете плохо, в коммуналках, но говорите: «А зато у нас в Москве – лучший в мире метрополитен». А нам это все равно. Для нас главное – как живет он лично».
Это поразило. И я в душе осудила такой подход. Как, впрочем, и другой эпизод из её жизни. Мария встречалась с немецким студентом из другого вуза. Свиданье было назначено у метро Сокольники. А у нее заболел живот. Пришлось лечь в постель и никуда не идти. Но нас она предупредила:
– Девочки, приведите себя в порядок. Ровно через 20 минут Вальтер постучит в эту комнату.
– Как это?
– Ровно 10 минут он будет меня ждать. Потом сядет в трамвай и будет здесь: значит, пройдёт ещё 10 минут.
– Но почему так точно?
– Так положено.
Ровно через 20 минут в дверь постучали… Такая точность казалась мне неестественной. и неромантичной.
Удивила меня и соседка по комнате, студентка из Китая (сложное имя не помню, а дневников тогда не вела). Когда приехал Мао Цзэдун, он встретился в Актовом зале МГУ со студентами из Китая. В своей речи он сказал примерно так (в пересказе китайских студентов): «Советский Союз – наш старший брат. А старшего брата положено уважать и любить. А вы любите Советский Союз?».
В ответ все закричали:
– Любим! Любим!
Моя соседка кричала громче всех. И за это сам великий Мао пожал ей руку.
Взглянуть на её руку и пожать ее приходила вся китайская община. А сама счастливица объяснила мне, что теперь постарается как можно дольше не мыть эту самую руку. Хоть бы и год.
Однажды кто-то из китайских студенток угостил меня особой икрой из присланной родственниками консервной банки: каждая маленькая икринка была нафарширована какой-то пряностью. Я подумала о необычайном трудолюбии и искусности китайских людей.
* * *
Время шло. Наступила пора распределения. Оно было жёстким для немосквичей. Иногородним предложили ехать преподавать русский язык и литературу в узбекские кишлаки. Я сказала комиссии, что должна остаться в театральной студии, которая вот-вот станет театром (мы, студийцы, наивно верили в это). Комиссия неожиданно разрешила. Наша студия, правда, вскоре распалась, и я стала играть в Студенческом театре МГУ. Туда пришёл Марк Захаров и поставил пьесу Е. Шварца «Дракон», где я играла Эльзу. А потом – рождение дочери, редакторство, журналистика, преподавание.
Немного из моей «дофилфаковской» биографии
С самого первого посещения аудиторного корпуса МГУ на Моховой появилось обстоятельство, которое тревожило мою душу.
Это была малозаметная табличка из черного металла, висевшая у входа в так называемый «новый» корпус МГУ. Она оповещала, что здание построено в 1833 – 1836 годах архитектором Евграфом Дмитриевичем Тюриным. Фамилия моей матери тоже была – Тюрина. Только много лет спустя, занимаясь родословной и найдя общих родственников, я установила, что отец Евграфа Дмитриевича, архитектор, вольноотпу-щеник фрейлины Измайловой, Дмитрий Андреевич Тюрин – наш общий предок. Евграф Дмитриевич Тюрин приходился родным братом моего прямого предка Леона Дмитриевича Тюрина. Кроме университетского корпуса, библиотеки при нем и церкви Св. Татьяны Евграф Тюрин выстроил Богоявленский храм в Елохове, возвёл собственный дом на Знаменке, 5, где сейчас… галерея А. Шилова (В прошении Тюрин написал: «Дом сей будет украшением Боровицкого холма»). Он восстанавливал Архангельское, Демидовский дворец (ныне – Президиум Академии наук). Еще до братьев Третьяковых Евграф Тюрин пытался подарить Московскому Университету уникальную общедоступную галерею из своей коллекции.
Коллекция его состояла из 415 картин «всех художественных школ Европы» Но, видимо, эта демократическая идея опережала свое время – место для галереи не было выделено. Обо всём этом я написала в монографии «Евграф Тюрин, архитектор и коллекционер», вышедшей в 2005 году в Издательстве УРАО.
Отправляя меня и сестер учиться в Москву, мама говорила, что в Москве даже воздух дает образование. Я потом часто вспоминала её высказывание. Этим «воздухом образования» для меня, кроме МГУ, были сами москвичи, московская история, которой дышат улицы, храмы, дома, музеи, выставки, архитектура, экскурсии, даже мемориальные доски и брусчатка мостовых. Но прежде всего – друзья, однокашники. Общение с ними дарило самые различные открытия жизни.
Помню, например, Аню Масс, дочку известного театрального сценариста Владимира Масса. Она училась на заочном, мы познакомились и дружили. Она жила в знаменитом «вахтанговском» доме, в Левшинском переулке. Анна доставала мне билеты в Вахтанговский театр и рассказывала чудесные «Вахтанговские» истории из 20-х годов. Например, как в голодной и холодной Москве тех лет актрисы студии, боготворя своего режиссера Вахтангова и зная, что ему нравятся их наряды типа «черная юбка и белая блузка», ухитрялись каждый вечер кипятить в золе свои единственные белые кофточки, крахмалить их, а утром – гладить горячим чугунным утюгом с раскаленными углями внутри. Да что там блузки! Как рассказывала Анна – прикажи он только броситься из окна – все бы и бросились. Такое было отношение к кумиру.
Дочка известных кинорежиссеров-документалистов Марина Челакова, тоже заочница, рассказывала мне о киносъемках, водила на выставки импрессионистов – с тех пор это мое непреходящее увлечение. Про напившихся молодых людей Марина говорила: «натюрморт». Это выражение мне казалось словесным изыском, которым щеголяли истинные москвичи еще со времен по-своему раскованного Серебряного века. Хотелось тоже сказать кому-нибудь небрежно: «натюрморт». Но было некому.
Оксана Кручинина, моя одногруппница, приглашала в свою уютную, по-московски гостеприимную квартиру – они жили на Миусах, в Доме Композиторов. В этом доме всегда звучала музыка (тихая или – громкая, смотря на каком этаже играли).
Саша Балинов (из моей 6-й группы) неустанно агитировал нас посещать выставки, объясняя, что если пройти по студенческому билету – то почти даром. Расход вроде небольшой, а образовательный эффект – огромный
Света Митина приглашала в свой дом – рядом с кинотеатром «Ударник», позднее его называли «дом на набережной». Ее отец был известный академик философии. Их квартира поражала мое воображение своим масштабом, мягкой мебелью, обитой черной кожей, и огромными книжными полками. Строгость и громоздкость казенной мебели в их квартире напоминала мне интерьеры известных картин и фотографий на тему «Ленин в Кремле». Библиотека была огромна, и Света давала подружкам любую книгу домой. Правда, взрослые велели ей вести запись «абонентов». Ведь книги были в огромном дефиците, по Москве даже ходили стишки: «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом. Тот безнадежный идиот, кто на дом книги раздаёт».
В их огромной квартире, по моде тех времен, кухонка была крошечная. Но – в ней стоял небольшой рефрижератор (диковинка тех лет! Я впервые такое увидела), а в нем – продукты из так называемой «кремлевки», и даже – готовые обеды оттуда же. По необычайно низкой цене – на всю семью и даже на гостей – хватало. Их брали по талонам из «кремлевской столовой», филиал которой находился здесь же, рядом, в подвале гастронома, кажется. Света угощала меня сервелатом, а это была уж подлинная диковинка.
Много позже, уже в 80-х, мой однокурсник Дмитрий Урнов расскажет мне, как он был на конференции любителей фантастического романа-предостережения Дж. Оруэлла «1984» и повести-предостережения «Скотный двор». На конференцию собирались, кажется, раз в пять лет – обсудить, что же сбылось в СССР из предсказаний писателя. Многое сбывалось, но в такую из ряда вон выходящую практику, как распределение продуктов, никто из иностранцев поверить не мог. Было непонятно, почему в XX веке какие-то люди на правительственных «чайках» или на более скромных машинах спешат в закамуфлированный, отделанный керамической плиткой подвал за финской колбасой и копченой рыбой, маринованными огурцами и краснодарским чаем? Ведь на Западе это без проволочек может купить каждый клерк?!. А здесь вот – на правительственных «чайках»… «Слетаются голодные чайки» – как однажды пошутил писатель Леонид Лиходеев.
Но Урнов, зная, что именно эти из ряда вон выходящее подвалы с продовольствием «для избранных чиновников» существуют в СССР – на фоне пустых прилавков в обычных магазинах – ждал дискуссии. Ждал с ужасом, ибо, по Пушкину (см. письмо Вяземскому, май 1826 г.): можем сами ругать отечество, но нам досадно, когда это делает иностранец. Помощь пришла, откуда он и не ждал. Самый яростный из нападавших иностранцев вдруг громко заявил: «Такого не может быть. Это, наверное, единственное, в чем Оруэлл ошибся!» Вот как бывает.
Друзья приглашали нас в общежитие на Стромынке, на концерты артистов Большого театра. Это было незабываемо.
На сцене студенческого клуба на Моховой играли актёры Вахтанговского театра и театра им. Моссовета. Блистали легендарные Мансурова и Марецкая.
Здесь же я увидела первый в моей жизни капустник, очень смешной для наших пятидесятых: сюжетом его был. не удивляйтесь. советс-кий стриптиз!
На сцену выходила симпатичнейшая, по русской моде – русая и крепко сбитая (коня на скаку остановит), девушка. Все, как положено, – валенки, телогрейка, шапка-ушанка.
Звучала несколько развязная музыка. Девушка одаряла зал обаятельной, неотразимой, но всё же – извиняющейся улыбкой, на ходу делая несколько скованных па. Правда, с небольшим, но – тоже извиняющимся, намеком на развязность.
Затем, как бы нехотя, она скрывалась за ширмой. Музыка звучала всё призывнее и все громче. Публика видела, как эта невидимая стриптизерша вешала на кромку ширмы, один за другим, элементы своей одежды. Саму девушку не видать. Только – свешиваются ватник, шарф, ушанка. С краешка ширмы, на полу, невидимая рука артистки выставила валенки. Музыка гремит. Это – кульминация. Затем так же невидимо происходит одевание. Зрители – в курсе процесса, так как вещи исчезают в той же невидимой последовательности.
Наконец – заключительные аккорды и улыбающаяся, обаятельная стриптизерша, в полной прежней амуниции, выходит из-за ширмы. Она удаляется все с той же привлекательно-призывной улыбкой и скованно-несмелыми па, не лишёнными претензий на отчаянную смелость.
С тех пор и я научилась делать капустники.
А в 1957-м году знаменитый французский актер Жерар Филипп (вечно молодой Фанфан-Тюльпан) приехал в Москву, в составе кинематографической делегации Франции, на фестиваль французских фильмов. Какие очереди за билетами мы выстаивали, чтобы посмотреть на Даниэль Дарье, на Симону Синьоре и, конечно же, на него, на неповторимого, божественного Фанфан-Тюльпана! А он… Он побывал в ЦУМе, удивился нашему «ширпотребу», накупил грубоватых женских ночных рубашек и другого сногсшибательного женского белья, рассчитанного на наши морозы и еще – на послевоенную нашу бедность. А потом устроил в Париже выставку всего этого. О, напрасно и неосмотрительно он это сделал!
Да откуда же ему было знать о разящем русском народном юморе? Вспомним гоголевское: выражается крепко русский народ. Вот народ и выразился: с тех пор самая теплая принадлежность дамского таулета, рассчитанная на тридцатиградусные морозы, с начесом из байки, называлась у многих московских дам ни много ни мало «жерарами». («Вот вчера купила себе в ГУМе жерары»). Правда, время подобных товаров – ушло, как вздох. А блестящее имя блестящего актёра оказалось прикованным к высмеянным им шедеврам советского «десу».
Помню ещё, как однажды в клубе на Моховой был вечер, на который все стремились попасть. Это был визит редакции французской коммунистической газеты «Юманите». В составе делегации были Эльза Триоле и Луи Арагон, а сопровождала их таинственная Лиля Брик, вошедшая в наши сердца вместе со строками Маяковского: «Лиличка! Вместо письма» и еще – «Если я чего написал, если чего сказал, – тому виной – глаза-небеса, любимой моей глаза: круглые да карие, горячие до гари. Я почти ничего не слышала, о чем говорили, все разглядывала Лилю Брик. Помню только один вопрос из зала: «Почему в Вашей коммунистической газете «Юманите» так много, по буржуазному образу и подобию, – рекламы?» Помню и ответ: «А потому, что надо кушать». Это было мало понятно в те времена: «Разве можно, – думали мы, – желание «кушать» осуществлять путём печатания пошлого рекламного буржуазного текста?» Но как все изменилось – реклама нас теперь буквально преследует.
А тогда. Вот Она, «Лиличка вместо письма», сидит почти рядом. Божество Маяковского. Рядом со мной!
О том, что появлялось и другое божество, нам пока знать было не положено. Но очень скоро ветер оттепели принесет нам и это знание. На вечерах декламации, которые стали устраивать двое наших любителей этого жанра – Валентин Непомнящий и Алла Бирюкова, прозвучали доселе не публиковавшиеся в Советском Союзе стихи Маяковского «Татьяне Яковлевой». Валентин Непомнящий вскидывал копну своих черных кудрей и, обжигая публику своим горящим, синим, полыхающим взглядом, гордо читал:
Я все равно
Тебя когда-нибудь
Возьму!
Одну – или вдвоем
С Парижем!!!
Это было таинственно и требовало пояснений. Их не было, и оттого все воспринималось еще острее.
Алла Бирюкова читала Блока. Потом снова Валентин Непомнящий – он читал «Кёльнскую яму» Бориса Слуцкого: «О, бюргеры Кёльна, да будет вам срамно! О, граждане Кёльна, как же так? Вы, трезвые, честные, где же вы были, Когда, зеленее, чем медный пятак, Мы в Кёльнской яме с голоду выли?»
А потом Непомнящий неподражаемо и романтично пел: «Выпьем за Марикиту, дочь звонаря в Толедо, в танце – как ветер, в любви как пламя, лучше и краше девушки нет в Севилье, во всей Севилье». Это четверостишие, как раз, было для меня вполне приемлемо: почему же не похвалить девушку? Но последующий куплет казался мне совершенно надуманным и каким-то нежизненным: «Выпьем за Маргариту, дочь звонаря в Малаге, – та, что сегодня любит, конечно, лучше и краше той, что вчера любила, вчера любила…». Дело в том, что мои родители прожили в любви и восхищении друг другом более полувека, и именно подобные отношения были для меня нормой. А тут: «сегодня» или «вчера». Зачем петь про такое, неестественное?
Валентин проживает тоже в долгом и счастливом браке с моей подругой юности, талантливой актрисой и неподражаемой певицей Татьяной Ивановой, а песенку про Марикиту в упор не помнит, хотя я и пыталась ему ее напеть. Зато Алла Бирюкова все это помнит.
Некоторое время я тоже жила в общежитии на Стромынке, а на 5 курсе – на Ленинских горах. На Стромынке, в одной со мною комнате жила немка из ГДР Мария, очень добродушная и дружественная. Она удивила меня тем, что сказала однажды: «Вот вы, русские, живете плохо, в коммуналках, но говорите: «А зато у нас в Москве – лучший в мире метрополитен». А нам это все равно. Для нас главное – как живет он лично».
Это поразило. И я в душе осудила такой подход. Как, впрочем, и другой эпизод из её жизни. Мария встречалась с немецким студентом из другого вуза. Свиданье было назначено у метро Сокольники. А у нее заболел живот. Пришлось лечь в постель и никуда не идти. Но нас она предупредила:
– Девочки, приведите себя в порядок. Ровно через 20 минут Вальтер постучит в эту комнату.
– Как это?
– Ровно 10 минут он будет меня ждать. Потом сядет в трамвай и будет здесь: значит, пройдёт ещё 10 минут.
– Но почему так точно?
– Так положено.
Ровно через 20 минут в дверь постучали… Такая точность казалась мне неестественной. и неромантичной.
Удивила меня и соседка по комнате, студентка из Китая (сложное имя не помню, а дневников тогда не вела). Когда приехал Мао Цзэдун, он встретился в Актовом зале МГУ со студентами из Китая. В своей речи он сказал примерно так (в пересказе китайских студентов): «Советский Союз – наш старший брат. А старшего брата положено уважать и любить. А вы любите Советский Союз?».
В ответ все закричали:
– Любим! Любим!
Моя соседка кричала громче всех. И за это сам великий Мао пожал ей руку.
Взглянуть на её руку и пожать ее приходила вся китайская община. А сама счастливица объяснила мне, что теперь постарается как можно дольше не мыть эту самую руку. Хоть бы и год.
Однажды кто-то из китайских студенток угостил меня особой икрой из присланной родственниками консервной банки: каждая маленькая икринка была нафарширована какой-то пряностью. Я подумала о необычайном трудолюбии и искусности китайских людей.
* * *
Время шло. Наступила пора распределения. Оно было жёстким для немосквичей. Иногородним предложили ехать преподавать русский язык и литературу в узбекские кишлаки. Я сказала комиссии, что должна остаться в театральной студии, которая вот-вот станет театром (мы, студийцы, наивно верили в это). Комиссия неожиданно разрешила. Наша студия, правда, вскоре распалась, и я стала играть в Студенческом театре МГУ. Туда пришёл Марк Захаров и поставил пьесу Е. Шварца «Дракон», где я играла Эльзу. А потом – рождение дочери, редакторство, журналистика, преподавание.
Немного из моей «дофилфаковской» биографии