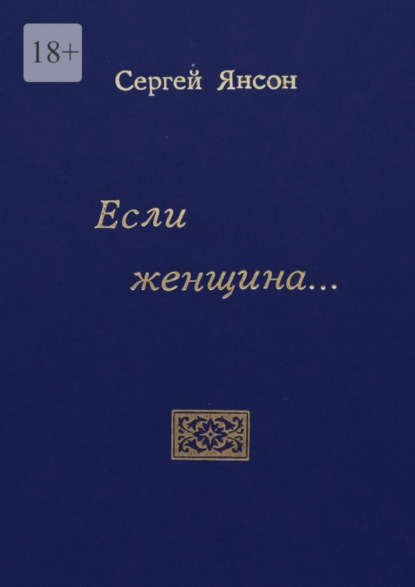По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Если женщина…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Леня побледнел, задумался, широкими глазами посмотрел на Сомова.
– Вельск? – тихо спросил тот.
Директор с удивлением, словно сквозь туман собственных глаз, посмотрел на Сомова, потом на стол и вписал куда-то сказанное слово. Потом уже окончательно поднял голову и спросил:
– Зачем вы к нам устраиваетесь?
Сомов смутился. Ответы вертелись не те. Не скажешь ведь: из-за часа утреннего сна или: здесь мое призвание, я чувствую это…
– По совету друзей, – пробубнил Сомов и кивнул на Леню.
Леня на всякий случай засмеялся. Ответы не шибко интересовали директора. Видимо, ему важно было задать вопросы.
– А почему уволились из бюро? Дети маленькие есть? Давно знакомы с Леней?
Сомов уже внутренне был готов ответить, был ли кто из родственников во время войны на оккупированной территории и в каком году была написана работа Ленина «О кооперации». Но директор не спросил. Он перевел взгляд на Леню и заговорил о Сомове в третьем лице:
– Мы с большой охотой берем специалистов, его мы берем от безысходности. У нас есть ставка инструктора массового отдела от девяносто семи рублей пятидесяти копеек до ста двенадцати рублей. Я даю ему девяносто семь рублей пятьдесят копеек.
Леня сказал спасибо, разговор кончился.
Когда вышли из кабинета, улыбающаяся Мария Викторовна сказала:
– С вас, Виктор Павлович, шампанское!
«Литр», – подумал Сомов и через силу улыбнулся в ответ. На улице, осторожно шагая по обледеневшему тротуару, Сомов бубнил:
– Ну у вас и директор! Ну и человек!
– Он честный, – сказал Леня и почему-то оглянулся.
– Как трибунал?
Они дошли до перекрестка. Уперлись в красный свет.
– А почему зарплата минимальная? – спросил Сомов.
– Не надо было возражать. Альфред Лукич не любит.
– Я вообще почти молчал! Ты же видел!
– Тоже плохо, Альфред Лукич молчунов не любит. Молчишь – значит себе на уме, думаешь…
Зажегся зеленый. Леня заспешил через улицу, Сомов за ним.
– А что злишься-то? – Леня засмеялся. – Он же тебя принял. Обещал и принял!
Альфред Лукич Зуев стал директором дома культуры еще в те далекие времена, когда у нас слово «кибернетика» было ругательным, а слов «многовариантность» и «рентабельность» и вовсе не существовало. В то время еще молодой и энергичный директор взялся за дело с удовольствием. Был он человеком крутым, часто кричал на сотрудников, но работа получалась. Тогда было принято командовать круто и на заводах, и в колхозах и уж тем более в культуре. Иначе, как думалось, в культуре произойдет развал, а может быть, даже и разложение. Что такое прорыв в политпросветработе, никто не задумывался, но про Альфреда Лукича стали через некоторое время говорить, что он вывел дом культуры из прорыва.
И в будние дни этот очаг не пустовал, а по воскресеньям и вовсе ломился от публики. Альфред Лукич завел множество кружков от стрелкового и «переделки совести» – так действительно назывался кружок и предназначался он для тогдашних неправильных подростков – до изобразительного. Директор первым доставал новые фильмы, не жалел денег на известных артистов. Про свою самодеятельность Альфред Лукич говорил: «С такой не стыдно и в Москву!» В общем, было ему что показать и было что у него посмотреть. Дом культуры хорошел, хорошел и сам директор. В зрелые свои годы Альфред Лукич завел себе и машину, что объяснял крайней производственной необходимостью. Автомобиль был по всегдашней руководящей моде черного цвета, и по нему сотрудники определяли, у себя директор или отсутствует. Одевался он тоже согласно тогдашней моде у руководителей в костюм, как сказал бы поэт, полувоенного покроя. Когда Альфред Лукич сидел в нем за рулем полусобственной машины, казалось, здоровье и сила этого человека бесконечны. Но шло время, Альфред Лукич старился, а вместе с ним, казалось, старился и дом культуры. В силу небывалого развития авторитарного руководства у нас как-то и сами заводы, институты, колхозы, дома культуры, иные административные единицы становились похожими на своих начальников. Вот и выходило, если старый, скажем, директор завода, то и завод становился старым, если директор – красивый – то и завод прихорашивался, если крупный – то и завод расширялся… Руководители кружков и секций кто умер, кто ушел на пенсию, а новые за прежнюю зарплату работать не шли. Директор стал скупым, и теперь, если руководитель кружка художественной вышивки, к примеру, отказывалась вести на общественных началах еще какой-нибудь, скажем, художественного слова, ее увольняли, а оба кружка передавались, естественно, опять-таки в качестве общественной нагрузки, преподавателю музыки. Оттого штатных преподавателей в доме культуры осталось лишь трое: Леня, помогающий по совместительству составлять сценарии вечеров и концертов, сочинявший также стихи к датам и юбилеям, Марк Дмитриевич – руководитель объединенных курсов кройки, шитья и вязания, которого общественная нагрузка миловала из-за преклонного возраста, и Пекашин – странная личность, постоянно находящаяся в доме культуры, по совместительству руководящая кружком гитаристов. Остальные руководители были чистыми совместителями, приписанными к другим домам культуры…
Фильмы привозили теперь сюда старые, артистов присылали согласно типовому договору, а народ с улицы заглядывал лишь от тоски. План делали на организованных мероприятиях. Дом культуры стал совсем тихим и оживал, лишь когда какая-нибудь организация снимала помещение под мероприятие. Даже Альфред Лукич кричал теперь на сотрудников без прежнего энтузиазма, не по убеждению, а от раздражения. Состарился и его черный автомобиль. Правда, блестел он по-прежнему – Альфред Лукич денег на ремонт не жалел, – но странно было видеть теперь на наших улицах эту черную кляксу выпуска начала пятидесятых.
Нового в работе дома культуры не появлялось уже давно. За исключением одного. Альфред Лукич стал по-новому бороться с опозданиями. Сам он часто приходил, точнее приезжал на черной машине за полчаса до начала работы, а ровно в десять звонил вниз вахтеру и требовал ключи от тех кабинетов, куда еще не пришли. Если же ключи все были разобраны, директор обзванивал кабинеты и спрашивал всех по очереди. Опоздавших без промедления звали к Альфреду Лукичу. Директор внимательно выслушивал объяснения и независимо от причины раскрывал особый журнал и ставил против фамилии опоздавшего галочку. Все знали, что три галочки – это лишение премии и выговор.
Ходил теперь Альфред Лукич по дому культуры редко. Все больше пользовался местным телефоном. Но уж если выходил, то тихо. Он любил заставать врасплох. Тихо войдя в какой-нибудь кабинет, он с видимым удовольствием наблюдал, как гаснут разговоры и персонал испуганно на него смотрит. Тут кто-нибудь вскакивал и поспешно здоровался. Вставали и остальные. Так было принято. Вставал даже Марк Дмитриевич, работавший с покойным Мейерхольдом… Директор осматривал кабинет, словно видел его впервые и, если был в хорошем расположении духа, что случалось нечасто, ограничивался замечанием вроде:
– Почему криво висит плакат против пьянства?
После проверки наличности директор приказывал к себе никого не пускать и принимался читать газеты и журналы, которые он выписывал на дом культуры. Отдельно откладывал те, где были кроссворды, чайнворды, изоворды и крестословицы. Потом делал необходимые звонки и требовал у секретарши чаю. Секретарша отказывала. Альфред Лукич злился и, видимо, называл Марию Викторовну дурой про себя. Это было похоже на игру, повторяющуюся каждый день. Когда же женщины спрашивали Марию Викторовну, отчего она не может заварить директору чаю, она отвечала:
– Наш директор не в моем вкусе. Вот если бы он был мужчиной во французском стиле… – Мария Викторовна вздыхала, закатывала глаза и продолжала, – я бы ему чай приносила на подносе с росписью, а в специальной плошке из Хохломы – лимоны или вишневое варенье.
Чай директору приходилось терпеть. Во-первых, Мария Викторовна была умелой секретаршей, а во-вторых, в нынешнем своем возрасте директор больше всего боялся каких-либо перемен. Он сам включал электрический самовар – приз камерному хору дома культуры за выступление на районном смотре, – сам сыпал заварку в идеологически выдержанный фарфоровый чайничек с красной надписью на крышке «XXV съезду КПСС – слава!» Чайничек директору привезли из Ташкента. Испив чая, он просматривал бумаги, подписывал приказы и кричал на заходящих с просьбами сотрудников:
– Мы не дорабатываем! Мы уходим с работы и забываем о ней! А помнить нужно всегда! Это первая заповедь культпросветчика! Пришел домой вечером – подумай: где недоработка? Сидишь в гостях: ага! Завтра нужно еще больше постараться! Ложишься спать, вспомни: где упустил? Спишь – пусть приснится дом культуры! Новая идея! Мы, работники культуры, – не имеем права спать!
После директор уезжал домой обедать, там спал, а к концу рабочего дня возвращался в дом культуры. Снова проверял, все ли на месте, и решал кроссворды, чайнворды, изоворды и крестословицы.
Была у директора и еще одна страсть-обязанность. Он был болельщиком футбола и не рядовым, а членом Президиума городской федерации. Это давало право бесплатно посещать все футбольные матчи в городе. Сотрудники знали об этом, и все на всякий случай следили за ходом чемпионата страны.
Когда человек по какой-либо причине вылечивается от чувства к женщине, и к нему приходит счастье, именуемое душевным покоем, он клянется себе, что впредь такого с ним никогда не случится. Нет, будут, конечно женщины, возможно, будет и жена, но сжигающей страсти он теперь поостережется!
«Хватит! – думает человек. – Наелся! Доживу свой век спокойно!» Но покуда есть на свете женщины, покоя не будет. И не знает отдыхающий душой человек, что сердце его уже готовится к новому чувству.
Так, наверное, думал бы Сомов, будь он лет на десять постарше, а пока… пока новый инструктор культурно-массового отдела огорчался, что в доме культуры почти нет девушек или молодых женщин. Директор – зануда, ну да бог с ним! Не с директором же работать. А терпеть начальство Сомов привык. В его сознании оно превратилось в какое-то постоянное, даже необходимое зло. А его организм, чтобы легче жилось, выработал для себя некоторые заповеди. Если бы Сомова попросили назвать их, он вряд ли бы смог это сделать, но инстинкт подсказывал: главное – не попадаться часто (завучу школы, декану, начальнику) на глаза, не лезть вперед, пока (завуч школы, декан, начальник) не спросит и ни в коем случае не возражать, когда говорит (завуч школы, декан, начальник). Беда Сомова была в повышенном чувстве себя. Подчас гордость перешибала даже инстинкт. Это, наверное, тоже генное чувство, только у одних оно атрофируется, а у других живет, и страдает такой человек не только за себя, но и за родителей своих, деда и бабку, за всю свою фамилию.
Дом культуры был в два этажа. Рассказывали, что до революции это здание с колоннами принадлежало князю М. Князь нуждался в деньгах и устроил здесь игорное заведение. Играли на первом этаже, а на втором отдыхали, так что можно было сказать – наполовину княжеское пристанище служило домом отдыха. После революции князь за границу не уехал, пошел в советы и предложил открыть первый рабоче-крестьянский игорный дом. Пролетариату и беднейшему крестьянству за вход предлагалась скидка. Видимо, князь был человеком с коммерческой жилкой. Однако время новой экономической политики еще не наступило, и князя расстреляли, а рулетки и игорные столы растащили нуждающиеся.
Дом с колоннами долго стоял пустым, потом туда въехала контора по продаже русских революционных инструментов, и уже перед самой войной здесь открыли отраслевой дом культуры.
Рабочее место Сомова было в кабинете на втором этаже. На дверях кабинета на одной половине висела табличка «культурно-массовый отдел», а на другой – «политико-просветительский». Первый представляли теперь в кабинете Сомов и его начальник – Валентина Митрофановна Кускова, по совместительству заместитель директора. Это была высокая, угловатая женщина тридцати шести лет. Валентина Митрофановна ходила на негнущихся ногах, громко стучала большими каблуками, и если говорила, то голос ее был слышен далеко. Было впечатление, что вся она сделана из больших прямоугольников каким-нибудь художником-авангардистом, исповедующим в искусстве острые углы.
Столы Сомова и Валентины Митрофановны стояли у окна друг против друга. Третий стол в глубине кабинета, если бы кто-нибудь заглянул на второй этаж в окно, занимал политико-просветительский отдел. Чем он отличался от соседнего, знал, наверное, лишь сам заведующий – Борис Семенович Боровский, но об этом никогда не говорил.
В прошлом Боровский служил в армии, был майором-артиллеристом, но по возрасту вышел в отставку и последние пятнадцать лет воевал на фронтах культпросвета. Деятельность эту Борис Семенович считал очень трудной и теперь на вопрос «как здоровье?» неизменно отвечал:
– Плохо!
В первый же день с утра он подошел к Сомову, положил на стол пачку конвертов, много марок и сказал:
– Вот, Витя, вам задача! Ничего, что на «ты»?
Нужно было наклеить марки на конверты, чем Сомов и занимался до обеда. Он облизывал марки и думал: «А денежки кап-кап-кап…» Валентина Митрофановна сосала конфетку и громко говорила:
– Вы – молодой работник! Вам – искать новые формы работы с молодежью! Молодежь – будущее, вы – ее представитель! Беритесь за дело с энтузиазмом. Если что, мы, старшие товарищи, поправим!
Фразы у Кусковой тоже получались какие-то прямоугольные.