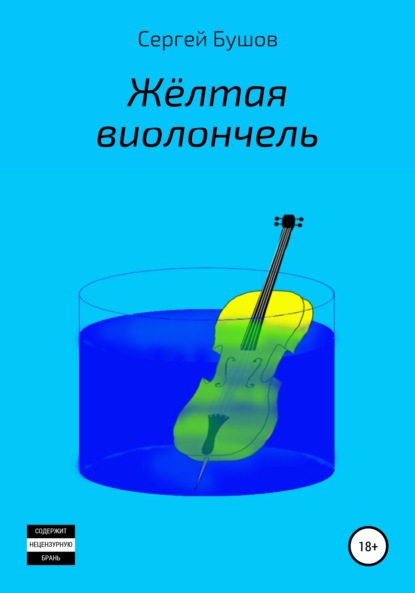По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жёлтая виолончель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вернувшись в комнату, я проверил, что в чайнике есть вода, и включил его. Надо было согреться. Почему, интересно, топят в общаге по графику, а не когда холодно? Мало ли, что стоял июнь. На улице было чуть выше нуля, сыро и мерзко.
Внезапно Паша на своей койке у окна подпрыгнул, сел и замахал руками, выпутывая голову из простыни.
– А! – сказал он.
– Ты чего? – спросил я спокойно.
Он взглянул на меня, словно сомнамбула, хотя я и не знал толком, что это слово означает. Должно быть, у сомнамбулы был именно такой взгляд – сонный, бесцветный и бессмысленный.
– Сон приснился, – промямлил Паша. – Представляешь, мои внутренние органы взбунтовались и убежали. Я за ними гнался, гнался, а потом они на меня набросились. Печень и мозг я молотком прибил, а вот сердце сильно покусало. И кишечник этот чуть не придушил, – он с омерзением отбросил простыню.
– Сердце покусало? – усомнился я.
– Ты знаешь, какие у него челюсти были? Прямо акула, а не сердце, – Паша тряхнул головой и снова откинулся на подушку. – Сколько времени?
– Одиннадцать почти, – ответил я.
– А чего ты вскочил? – спросил Паша. – У тебя же экзамен послезавтра только.
– Замёрз я, – огрызнулся я. – На кой чёрт ты ночью форточку открыл?
– Так душно было, – ответил Паша и задумался. – Вот классно было бы, если бы придумали форточку, которая для одного человека в комнате открыта, а для другого нет. Форточка Шрёдингера.
– Такую уже придумали, – возразил я. – Называется «отдельная комната». Жил бы я один и был бы доволен. Не люблю людей.
– А на кого бы ты сейчас злился? – возразил Паша.
– Да уж нашёл бы, на кого.
Чайник зашипел и выпустил пар. Я встал, подошёл к шкафу. Шкаф был старым, тёмно-коричневым, настолько потёртым, что кое-где просвечивало сквозь остатки лака дерево. Нижняя часть закрывалась сдвижной шторкой из реек. Отодвинув её, я достал кружку и принялся шарить между пустыми тарелками из-под китайской лапши в поисках чая. Коробку нашёл, но в ней ничего не оказалось.
– А чай у нас есть? – поинтересовался я.
– Не знаю, – отозвался Паша. – Но можно, наверно, где-нибудь купить семена. Посадим в горшок, и у нас всегда будет свежий чай. А если сверху поставить горячий душ, можно добиться, чтобы он сразу и заваривался прямо в горшке. Или чай не семенами размножается? Ну, споры какие-нибудь…
– Паша! – возмутился я. – Я не о теоретической возможности выпить чай. Я хочу его здесь и сейчас. У меня горло болит. А, нашёл.
Последний чайный пакетик отыскался на нижней полке, между дырявым пакетом муки и гнилой луковицей.
– Выпей «Пепси», – посоветовал Паша, снова садясь на кровати.
– Кончилась она. А мне нужно что-то горячее, – сказал я, наливая кипяток в кружку. – Я вчера столько этой «Пепси» выпил, что у меня до сих пор из ушей газы идут.
На шкафу стояло много пустых двухлитровых бутылок из-под «Пепси», надписанных различными именами, в основном женскими. Ещё несколько штук, не поместившихся на шкаф, болталось на леске, протянутой под потолком вдоль всей комнаты. Блин, нашёлся носок. Я снял его с лески над головой и надел на правую ногу. Потом вынул пакетик из чашки и бросил под стол, в коробку из-под торта, служившую мусорным ведром. Отхлебнул чая.
– Надо сахар купить, – сказал я. – И хлеб.
– Хлеб же есть, – возразил Паша.
– Где?
– В шкафу. С краю был, в пакете. Я ночью грыз.
Я снова подошёл к шкафу, порылся и достал дырявый пакет, в котором лежала зелёная обгрызенная со всех сторон горбушка.
– Фу, – сказал я. – Как ты его откусил-то? Он же как камень. И заплесневел весь.
– Плесень – это пенициллин, – сказал Паша. – Если её много съесть, она может в мозгу корни пустить. Тогда вообще болеть не будешь.
– Ага, – мрачно добавил я, возвращаясь за стол. – И мозг весь съест.
– Ну, неизвестно, умеет ли плесень думать. Может, она вполне успешно заменит твоё серое вещество своим зелёным. Ещё и фотосинтез… Но тогда лучше, наверно, череп вскрыть. Чтобы солнышко освещало.
Чай был горячим и жидким, так что горлу полегчало.
– Что делать сегодня будем?
– Я экзамены все сдал, – сказал Паша. – Буду спать. Или, может, погуляю. Можно с девушкой познакомиться. Старые надоели все.
– С жиру ты бесишься, – сказал я. – Вон, у меня вообще никого нет.
– Ну, кто же тебе мешает заводить отношения? – сказал Паша. – Сидишь тут целыми днями то за компом, то с книжками… Расслабляться же надо.
Скрипнула дверь блока. Затем приоткрылась входная дверь комнаты, и из-за неё робко показалась голова с длинными, до плеч, тёмными кудрявыми волосами.
– Приветик, – сказал Жора. – Не спите?
– Привет, – сказал я. – Нет.
Он вошёл, сел на край моей кровати. Смуглый, маленький, худой, да ещё с такой причёской, он напоминал девочку-подростка. В голубых зауженных джинсиках, чёрной водолазочке… Фу, чёрт, в джинсах и водолазке. Заразил, собака, своими уменьшительно-ласкательными.
– Я это… – сказал он. – Я тут заработал немножко денежек. Может, отметим? Бухлишка купим, покушать…
– Покушать это да, – сказал я. – Можно. Только у нас денег нет.
– Так я же и говорю, – пояснил Левин. – Денежки-то мои.
– Вот за что я тебя люблю, Жора, – сказал Паша. – За щедрость.
Он вытянул свои длинные костлявые руки вверх и потянулся, приговаривая:
– Потягуси-гуси-гуси…
– Ну, что такое денежки? – философски заметил Жора. – Их в могилку с собой не возьмёшь. Их тратить надо. Не в одну же мордочку я пить буду. Пойдём за винишком к метро?
– Пошли, – сказал Паша.
– Ладно, – согласился я. – Только я совсем чуть-чуть выпью. Боюсь.