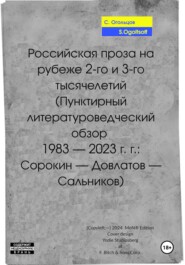По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(…так я стал нашаваном, он же анашист, одним из посвящённых в ловлю кайфа от марухи, она же дурь, она же анаша, она же конопля, она же план, он же дрянь… и т. д., и т..п., и проч, и проч…)
Первым мой переход в расширенное измерение отметил прапорщик Гирок, потомок немецких колонистов на Северном Кавказе. Он увидел меня обездвижено стоящим лицом к лицу с жестяным стендом, что вытарчивал из иссохшей травы за гранью плаца, погружённым в глубинное изучение обрывков Всесоюзной ежедневной армейской Красной Звезды, наклеенной туда в предыдущее десятилетие.
Солнце изливало свой палящий зной на мою пилотку. А чё? Как бы к политзанятиям готовлюсь тут типа… у! глянь!. Американцам опять во Вьетнаме пизды дали… наш специальный корреспондент из Сайгона…
Материализуясь у правого края стенда, он усёк, что Беломорина в пальцах пристального читателя выкурена до бумажки её мундштука, даже «пяточки» не осталось. Прапор слабо улыбнулся, пробежал сухим языком по пересохшим губам и устало расплавился в приливе жары…
Пелена неведения свалилась с моих просвещённых глаз и открылось мне, что весь Орион знается с дурью, но всяк по своему… Карпеша и Рассол, в манере деловых предпринимателей. Джафаров, о, так мягко… У Рудько гомеопатическая система небольших «маячков» с равномерными интервалами между. Роберт – когда угостят, но и то не всегда… Похоже, я едва не отстал от поезда.
Но самая крутая дрянь у Саши Лопатко, художника Клуба. В его непритязательно обставленной студии я впадал в состояние полуневесомости, грациозно перемещаясь движениями ламинарий влекомых подводным течением или же в полную, как на орбитальной станции Салют, но не часто, потому что он жмотяра и жлоб. Рудько тоже соглашался, что в жизни не встречал настолько страшного эгоиста. И вот ведь странность – отец у него такой хороший, служитель культа, должен же как-то сына вразумить насчёт любви к ближнему…
(…по укурке та?ска бывает разная. В основном, приходит умиротворённость и тихое всепрощение, становишься такой весь обходительный, тебе хорошо и пушисто и хочется, чтобы всем тоже было хорошо, вот и стараешься никому не обломать пушнину.
А то вдруг подметишь какую-то забавную грань в окружающей действительности и – всё, ты идёшь вразнос, смеёшься до полного изнеможения, потом отдышишься и снова впадаешь в бесконтрольный смех. Такой вид таска?лова называется «поймать приход». Это очень опасная разновидность, если ты работаешь диктором на телевидении.
Ещё, бывает, приколешься что-то делать и – ну всё делаешь, и делаешь, и делаешь, причём с необычайным вниманием к деталям, с упорной такой методичностью и хоть давным-давно нужно было бросить всё это нахер, ты всё равно делаешь, и делаешь… Вроде той бригады зэков, что парой лобзиков дубовую рощу завалили.
Или, к примеру, так называемая «поросячья» таска. Это когда ты что-то есть начал и совершенно неожиданно тут раскрывается такая гамма вкусовых ощущений, что даже не заметишь как прикончил полкастрюли холодных макарон двухдневной давности и выскреб дно.
А в целом, становишься такой вдумчивый, рассудительный. К тебе кентюха подвалил, ну как бы «привет, как твоё ничё?», а ты уже заранее знаешь в какой момент своего бескорыстного общения он у тебя на косячок попросит.
Или к тебе начинают такие глубокие мысли подкатывать—ёбаный Исаак Ньютон! – только надолго они не задерживаются, не дают, чтоб ты их чётко сформулировал, потому что они на что-то ещё перетекают и ты уже там хуеешь от открытий чудных. В общем, игра теней на пелене тумана.
Музыку укуренным слушать – вот высший кайф…)
В музыкантской у нас имелся проигрыватель на этажерке и всего одна пластинка – альбом Бёрн от Дип Пёрпла… Сяду на пол, ухом в динамик, и держу в руках обложку диска, безотрывно рассматриваю, пока вся сторона не кончится – а там их бюсты вроде как бы из бронзы, и у каждого из головы язычок пламени, будто из зажигалки, чуваки в курсе насчёт правильно тащиться…
Самый облом, когда дрянь внезапно иссякнет, к кому ни подвалишь – нету. Такой период называется «подсос». Все злые, как собаки, патамушта ж кумар ахуеть как долбает. В натуре, у чуваков такие ломки, аж смотреть жалко…
Один раз Серый меня колёсами подогрел, когда из города привёз.
– Буишь?
– А эт чё?
– Ништяк.
– Ну давай.
Он по одной достаёт, а я глотаю. Полпачки захавал, грю: —«А какая доза?»
– Всё ништяк.
Так и добил всю пачку. Потом в ушах шум поднялся, как от водопада, а ночь такая тёмная вся и плотная стала, прям продираешься сквозь неё.
о… так тут кочегарка… Ваня на смене… захожу… он мне чёта грит а я не врубаюсь… потом начал вокруг печи ходить зачем-то…
Уже потом он мне рассказывал, что я в темноте запечного прохода встал и полчаса не двигался типа памятника из бронзы как бы… А главное – боюсь ложиться, это ж я каким-то снотворным облопался, а вдруг усну беспробудно? Обошлось, однако. А этот падла, он и сам дозы не знает, эксперименты на людях, сука, ставит – выживу или нет.
– Ну, ты ж блядь и лосяра!
К Ване жена приехала из их деревни в Крыму… Этот стройбат прям тебе сборище скоропостижно женатых придурков. Опять мне в кочегарке пахать смену за сменой.
Когда она уехала, Ваня парадку скинул и уже в повседневке в кочегарку явился. Воплощение унылой печали. Ну я солдатику размышлять не мешаю, за столом свою смену досиживаю. За окнами мгла и тоже сдержанно помалкивает.
Но тут Рудько, завклубом, к столу с другого края пришвартовывается. У него как всегда насморк и в санчасти ему какой-то порошок дали ингаляцию делать. Вот он в посудомойке кружку прихватил и приплыл в кочегарку для очередной безнадёжной попытки обуздать свои аденоиды.
Порошок из бумажки в кружку высыпал бережно и туда же кипяточку из крана, а сверху всё это дело ещё и картонкой прикрыл какой-то как бы крышка, чтоб сразу бы не выстыло.
Сидим с ним за круглым столом, аккуратно о чём-то беседуем; он картонку сдвинет, занюхает – дела там как ващще, накроет и – дальше беседуем.
Ну а Ваня к этому моменту своего священного долга перед Родиной уже всяких видов в кочегарке насмотрелся и потому из полутьмы соседнего зала все эти манипуляции просёк и сделал свои поспешные выводы. Решительным шагом подходит к столу и, – «Рудько! Дай и мне!»
– Шо дать?
– Ну это! – и показывает на Рудьково снаряжение.
А Рудько ж интеллигент, думает – если у него насморк, так и у других случиться может: – «На».
Ваня стаскивает ту картонку и—от души, по полной, шоб аж до пяток пробрало—делает пару занюхонов. Смотрю, а у него глаза под лоб закатило и к тому же крест-накрест.
А шо? Лично я бы поверил. Самовнушение великая сила и плюс к тому – вера горами движет. Вот он щас поверил, что Рудько тут «голубую фею» вёдрами херячит и в любой момент может на земляничные поля галлюцинаций занырнуть. Причём, как не?хуй делать. Спасать надо служивого.
– Ваня, – грю, – я тут на днях в столовой с одним Татарином из твоего призыва беседовал.
– И чё?
– Да, ничё так просто… я ему грю – "тебя как зовут, военный?"… а он мне – "моя Руску не паниматт"… "ну, это ясное дело", – грю, – "а до дембеля тебе скоко?"… тут он за голову как схватится: —"вуй, блятт, дохуя!"… так, Ваня, может, то дружбан твой был, а?
Короче, откачал напарника от его галлюцинаций, потому что таков закон армейской дружбы – сам погибай, а товарища выручай.
~ ~ ~
(…мне кажется, Орион предоставлял свои музыкальные услуги безвозмездно, то есть даром, во всяком случае, не помню, чтоб в разговорах поминались какие-либо башли за халтуру.
Для нас, музыкантов Ориона, сама лишь возможность вырваться за пределы воинской части 41769, играть танцы для людей одетых в гражданское являлось бесценной платой. Так что, если угодно, нам платили минутами свободы. Время – деньги. Иногда.
Прилипало ли что-то на лапу командного состава? Скажем, Замполиту? Понятия не имею, а врать неохота…)
С призывом из Симферополя, в Орион влился ещё один музыкант. Юра Николаев знал себе цену, свой прейскурант он изучил на гражданке, играя на ритм-гитаре в ресторанной группе. Он также пел (без особого диапазона, без особой лажи) в пределах обычных заказов от ресторанных кутил подогретых парой графинчиков водки:
"Есть вода! Холодная вода!
Пейте воду с водкой, господа!"
После третьего графинчика шёл тяжёлый-рок:
"…где течёт журча водою, Нил,