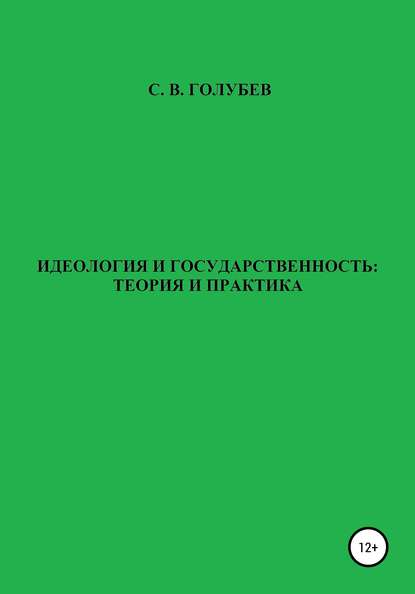По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Идеология и государственность: теория и практика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Можно сказать таким образом, что современность, стала одним из наименований новой либеральной (= антирелигиозной = материалистической = антитрадиционной = индивидуалистической) системы ценностей. Как пишет российский учёный Б. Г. Капустин, посвятивший этому понятию монографическое исследование: «Современность – как понятие философии культуры и политической теории обозначает проблемную ситуацию, в которой оказываются общества, вследствие подрыва и распада того строя высших ценностей, которые ранее легитимировали их порядки, обеспечивали осмысленность общей картины мира у членов этих обществ»[394 - Новая философская энциклопедия. Т. 3.,М., 2001. С. 587.]. Далее он обращает внимание на еще один важнейший момент, отмечая, что, поскольку, современность «подрывает объективный онтологический статус высших ценностей, задававших в традиционном обществе общую концепцию человеческой жизнедеятельности, то принципом современного общества, как его формулирует Гегель, выступает «абсолютная самостоятельность индивида»[395 - Там же.]. То есть, экзистенциальный смысл «современности» в том, что с распадом традиционных ценностей человек, если воспользоваться формулировкой Хайдеггера, «сам себя стал наделять предназначением и задачей». И, более того, современный человек считает своим правом не ставить себе вообще никаких задач (в чем, собственно, и состоит его современность), отказывается от предназначения как такового. Последнее становится для него чем-то сугубо внешним, сковывающим, а не раскрывающим-формирующим его личность. Он забывает и, попросту, перестает понимать смысл этого слова, которое оказывается именно несовременным. Так подготавливается почва для взращивания эгоизма. Суть «современности» и либерализма принципиально одна и та же, и заключается в индивидуализме.
Это обусловлено тем, что понятие «современность» связано с феноменом индивидуализма не только внешне-идеологически, но и внутренне, идейно, если угодно, метафизически. Со-временность отсылает к временности бытия, к его преходящести, и по идее своей формирует определенное отношение ко времени, как бытийной сущности. Современное время, отличая себя в качестве настоящего от прошлого, которого «уже нет», разрывает укорененный в традиции кругооборот «вечного возвращения». Время перестает быть цикличным, приобретает направленность и, тем самым, неповторимость, уникальность каждого своего момента. В качестве совокупности уникальных моментов, оно поступает в распоряжение индивида, становясь совокупностью уникальных моментов его бытия, порождая невозможную, немыслимую прежде уникальность его индивидуальной, личной, частной жизни, которая, только теперь, и становится возможной, в качестве таковой. Поскольку моменты времени стали моментами личной жизни индивида, они для него приобретают цену, он начинает ценить время. Оказавшись «внутри» этой экзистенциальной необходимости, будучи поглощенным ею и все больше «растворяясь» в ней, он неизбежно приходит к тому, чтобы ценить, точнее даже, – ловить момент, жить «здесь и сейчас», с дальнейшим необходимым следствием «обмена» моментов своей жизни на всеобщий эквивалент, который, собственно, и позволяет не «откладывать жизнь на потом» и «жить для себя». Соответственно, формулируется и становится истиной «практического разума», максима «Время–деньги», дающая квазифилософскую легитимацию суете, погруженного в современность, утратившего всякую связь с Вечностью (да и интерес к ней) индивида. Эта погруженность, узаконенное стремление «жить сегодняшним днем», естественным образом (и окончательно) отрывает индивида от традиции и замыкает горизонт его мировосприятия на повседневности, что и является экзистенциальной предпосылкой индивидуализма.
Можно сказать, таким образом, что представление о «современности» само по себе стимулирует, провоцирует индивидуализм и эгоизм, превращая современного человека в индивидуалиста, определяющей чертой психологии[396 - Приведём в качестве дополняюще-поясняющего комментария к употребленному, в данном случае, понятию «психология», слова Хайдеггера: «Ни Платон, ни Аристотель не знали ничего подобного «психологии». Предпосылка для появления психологии кроется в утверждении человека, как существа, которое знает самое себя, волит самое себя, точнее говоря, которое удостоверено в себе самом и само себя обеспечивает. Помысленный таким образом человек познается как субъект, а мир как объект. Понимание человека как субъекта, и, вообще, субъективность чужды эллинству. Поэтому в нем не только фактически нет никакой психологии, но и не может быть ничего подобного». Хайдеггер, М. Гераклит. М., 2011. С. 380.] которого становится эгоизм. Современное общество, соответственно, идеально-типически оказывается обществом «разумных эгоистов», а практически – всё более индивидуалистическим обществом. Этот оксюморон, в силу ряда очевидных причин, не может быть прямо провозглашен в качестве самоназвания либерального общества (цивилизации), поэтому оно взяло себе псевдоним (что, вообще говоря, очень в либеральном духе), – «современное». Этот псевдоним оказался находкой для либеральной идеологии. Главным, наверное, идейным оружием в её борьбе с врагами «открытого общества». Концептуализировав это понятие-название, либерализм, по логике вещей, противопоставил ему понятие «традиционного общества», что позволило придать идеологической борьбе форму научного исследования, эмоционально-психологическому давлению – видимость рационального обсуждения (= научной, = рациональной = цивилизованной дискуссии, о которой так любят поговорить адепты либерализма).
Дихотомия «традиционное/современное» общество позволила непосредственно перейти к дискредитации традиции как таковой. Последняя теперь оказалась чем-то противостоящим «современным веяниям», «тормозом на пути прогресса». Но дело, ещё и в том, что принципиально в это базовое различение встроена практически неограниченная возможность для заполнения смыслами, противопоставляюще-оценочного, антагонистического характера, такими как: прогрессивное/реакционное, передовое/отсталое, новейшее/устаревшее; устремленное в будущее/цепляющееся за прошлое; молодое, динамичное, развивающееся/отжившее, косное, застойное и т.п. Более того, различение современного и традиционного – не только удобная форма для заполнения уже готовыми смыслами, но и безотказная «матрица» для производства новых, в том числе, для «переоценки ценностей» прошлого, с современной точки зрения, конечно. Причём все эти операции по «перезагрузке» и производству смыслов и оценок получают возможность быть представленными в качестве результатов «закономерностей общественного развития», «научных открытий» и даже «простого обобщения эмпирических фактов». Этой цели, собственно, и служит, созданная либерализмом социальная наука, поставившая на поток производство «экономическо-философских рукописей» и, всякого рода, социально-психологических и подобных им исследований. И, надо сказать, что делает она это совсем не либерально, пытаясь присвоить себе исключительное право на объективность и дискредитировать несовременные познавательные практики. На догматический и тиранический характер социальной науки, её служебно-идеологическую роль указывал, в частности, П. Фейерабенд: «Либеральные интеллектуалы являются также «рационалистами», рассматривая рационализм (который для них совпадает с наукой) не как некоторую концепцию, среди множества других, а как базис общества. Следовательно, защищаемая ими свобода, допускается лишь при условиях, которые сами исключены из сферы свободы. Свобода обеспечена лишь тем, кто принял сторону рационалистической (т.е. научной) идеологии»[397 - Фейреабенд, П. Избранные труды по методологии науки. С. 507]. Узурпация истины «современностью», осуществляемая либеральной идеологией, объективно представляет собой средство интеллектуального подавления «традиционных обществ», их идеологий. Как отмечает тот же Фейерабенд (как известно, далеко не «консерватор» или «националист»): «вместе со скрытым догматизмом наших современных друзей свободы, обнаруживается ещё одно: демократические принципы наших дней не совместимы с беспрепятственным существованием и прогрессивным развитием национальных культур. Рационально-либеральное общество неспособно включить себя негритянскую культуру в ее подлинном смысле. Оно не способно включить в себя подлинную еврейскую культуру или культуру Средневековья в их чистом виде»[398 - Там же. С. 509].
Интеллектуально-научное отторжение-принижение традиционных культур, позволяет либерализму далее использовать сконструированную им матричную форму «традиционное /современное» для теперь уже прямо оценочной характеристики современного (= либерального) общества, как: «открытого», «свободного», «рационально устроенного», «правового» и т.п., и даже как здорового, а в отдельных, предельно откровенных случаях, как нормального! Традиционное общество оказывается, таким образом, прямо отсталым и, конечно: «закрытым», «несвободным», «нерационально устроенным», «неправовым»; и … далее по тексту. А значит, выявляется (подтвержденная научными исследованиями!) закономерная необходимость его осовременивая-оздоровления, приведения, так сказать, «в соответствие», к нормальному состоянию. На помощь опять приходит социальная наука, которая вырабатывает понятие и создаёт теорию «модернизации». Последняя, надо сказать, представляет собой характернейший образчик либеральной творческой мысли, – теорию не только без закономерностей (не говоря уже о законах), но и без достоверно установленных фактов, и даже, без автора (авторов)[399 - Конкретный анализ «теории модернизации» и результатов ее практического применения был проведен нами в работе: Основания государственности: философский анализ. Глава 3. Мн. 2005.]. Всё это, впрочем, не мешает «теории модернизации» играть ту роль, которая, очевидно, и предназначена ей в рамках либеральной идеологии, – роль инструмента управления нелиберальными обществами. Она позволяет обнаруживать в любом из них препятствующие «экономическому росту» «традиционные структуры и отношения», устанавливать «удельный вес» последних и, соответственно (опять же на научной основе), задавать направление «развития» того или иного «традиционного общества» и определять «конкретные механизмы» его «реформирования», с тем, чтобы помочь ему избавиться от «пережитков прошлого». Таким образом, посредством «теории модернизации», либерализм оказывается хозяином положения на «мировом рынке» «научно-политико-идеологических» услуг.
Поскольку понятия «либеральное общество» и «современное общество» (= современная цивилизация) являются, по существу, тавтологичными, становится необходимым применение «бритвы Оккама» и «исправление имён», во всяком случае, в «научном дискурсе». Псевдоним «современное общество» (цивилизация) должен быть выведен за его рамки. Объективность и ясность мысли требуют, таким образом, переименования «второго члена» вышерассмотренной дихотомии. Последняя, в соответствии с существом дела, может быть представлена разделением обществ на традиционные и либеральные или традиционные/нетрадиционные, а максимальная ясность, в данном случае, достигается, наверное, посредством разделения на традиционное общество и общество нетрадиционной ориентации. Слово «ориентация», заметим, объективно подчеркивает динамизм «современного» нетрадиционного общества, отсутствие в нем жёсткой нормативности, его открытость и устремленность в будущее. Наименование либерального общества[400 - Оговорим здесь, что речь идёт о «либеральном обществе» (цивилизации) как идеальном типе в веберовском смысле этого понятия. Реально существующие современные общества, – американское, английское и т.п., называются «либеральными» в силу господствующей в них идеологии, но, в действительности, конечно, не представляют собой «чистый тип», сохраняя, в большей или меньшей степени, исторически сложившиеся социальные установления и традиционные ценности.], обществом нетрадиционной ориентации, проистекает из объективного понятийного различения и, потому, свободно от субъективизма и идеологических привнесений, и, как представляется, в наибольшей степени раскрывает его действительную сущность и логику развития. Завершая наше краткое исследование терминологических особенностей «либерального дискурса», можно сказать, что знаменитая максима Декарта о необходимости «определять точно значения слов, чтобы избавить человечество от заблуждений» особенно значима в отношении либеральной идеологии.
Концептуальный анализ понятийного аппарата либерального теоретизирования должен, по необходимости, оставаться абстрактным, и не может, конечно, заменить конкретного рассмотрения важнейших экзистенциальных феноменов современной либеральной цивилизации. Поскольку она является «не»– и даже «анти»– традиционной, очевидно, что характерный для нее образ жизнедеятельности, феномены её культуры, должны быть сугубо специфичными, сущностно отличающимися от тех, которые свойственны традиционному обществу. Иными словами, не просто абстрактная система ценностей (это само собой), а все основные конкретные явления и формы человеческой жизни: религия, мораль, культура и искусство, политика, хозяйственная деятельность, познавательная деятельность и образование, семейные отношения, досуг и развлечения, – всё это в обществе нетрадиционной ориентации, «ориентировано» иначе, нередко даже, в принципиально ином, противоположном направлении, чем в известных истории традиционных цивилизациях. Ясно, что сколько-нибудь подробное описание этих феноменов, не говоря уже об их специальном анализе, – задача не для одного конкретного исследования, и, наверное, даже, не для одного исследователя. В настоящей работе мы ограничимся поэтому, краткими указаниями на наиболее яркие и характерные проявления нетрадиционной ориентации традиционных форм человеческой жизнедеятельности в либеральном обществе начала 21 века.
Важнейшей из этих форм, видимо первичной, собственно человеческой, формой социального взаимодействия, является, как было показано выше, ритуальная, культовая деятельность, – религия. Либерализм, в своей классической форме, начинавший с пропаганды «веротерпимости», всегда «прохладно» относился к религии. Уже сама эта «терпимость», бывшая одним из эвфемистических либеральных псевдонимов равнодушия, в соответствии с понятием, предполагала определенную «прохладу». Последняя, однако, проистекала не из равнодушия, которое для либеральной идеологии в отношении религии могло быть только тактическим, показным. Что и выяснилось вскоре после локковских «Писем», когда либерализм назвал себя «Просвещением» и от имени «Разума» и «здравого смысла» объявил религию «служанкой деспотизма» и «собранием предрассудков и суеверий». Дело в том, что религия, религиозная система ценностей, как таковая, принципиально противоположна системе ценностей либеральной идеологии. Выше это было специально и систематически показано и обосновано. Здесь, напомним только, что либерализм, вслед за Протагором провозгласил человека «мерой всех вещей», что, как было отмечено уже Платоном, неизбежно ведет к прямому противоборству с той системой ценностей и социально-политического устройства, «мерой» для которой является Бог. Поэтому, какой-бы не была на практике в той или иной конкретной исторической ситуации политика либерализма по отношению к религии, по существу своему, это две антагонистические идеологии. Впрочем, стратегия либеральной борьбы с религией, как раз и заключается в применении неантагонистической тактики. Здесь – прямая аналогия с отношением к государству в политической сфере, – постепенное реформирование. Открытые, направленные на непосредственное уничтожение религии (и её служителей) «кавалерийские атаки», – прерогатива левых экстремистов, от якобинцев до троцкистов-ленинцев, что, опять же, имеет чёткую аналогию в революционном политическом терроре лево-социалистических партий.
Суть либеральной тактики в борьбе с религией раскрыта Гегелем в его рассмотрении «борьбы просвещения с суеверием» в «Феноменологии духа». Гегель определяет «Просвещение» как «распространение чистого здравомыслия», которое «знает веру, как то, что ему, – разуму и истине – противоположно»[401 - Здесь и в двух последующих абзацах излагаются суждения Гегеля]. Характеризуя антагонистическое отношение Просвещения к религиозной вере вообще, он говорит, что для «чистого здравомыслия, вера, в общем, есть сплетение суеверий, предрассудков и заблуждений, царство заблуждения». Поэтому Просвещение, считающее себя светом Разума, задачей которого, как раз, и является искоренениепредрассудков, воспринимает религиозное сознание как «врага», – именно это слово употребляет Гегель. Вообще, цель идеологии «просвещения», согласно философу, заключается в том, что бы «разрушив предрассудки», вытеснить религию из «наивного сознания» народных масс и самой занять её место». Для этого «чистое здравомыслие просвещения» избирает тактику, гегелевское описание которой, представляет собой прекрасный образец сочетания предельной философской абстракции с яркой образностью. То, как Просвещение, его идеалы, – «сообщение чистого здравомыслия» «проникает в наивное сознание», говорит Гегель: «можно сравнить со спокойным распространением какого-нибудь аромата, беспрепятственно наполняющего собой атмосферу. Оно есть всюду проникающая зараза, сначала не замечаемая… Лишь когда зараза распространилась, она существует для сознания, которое беспечно отдалось ей». Именно посредством такого ароматического распространения «зараза» просвещенческого «здравомыслия» (локковский common sense) «поражает самую сердцевину духовной жизни» и в «наивном сознании», – «нет такой силы, которая могла бы превозмочь заразу», «словно невидимый и незаметный дух она пробирается вглубь в самые благородные органы… и если зараза проникла во все органы духовной жизни, только память тогда сохраняет ещё мертвый образ прежней формы духа»[402 - См. Гегель, Г.В. Ф. Феноменология духа. С. 277-279]. Эти гегелевские слова о «мертвом образе прежней формы духа» вспоминаются, когда видишь на площадях западноевропейских городов практически опустевшие, недействующие, превращенные в музеи, а то и отданные под «культурные мероприятия», христианские храмы.
Гегель характеризует и ту систему ценностей, которую Просвещение предлагает взамен религиозной. Отмечая, что полезность – основное понятие Просвещения, он пишет, что «оно объявляет еду или обладание вещами – самоцелью и, тем самым, выказывает себя фактически весьма нечистым намерением (подчёркнуто нами – С. Г.), которое придаёт абсолютно существенное значение такого рода наслаждению и обладанию»[403 - Там же. С. 285.]. Мыслитель указывает и на принципиальное основание этой, порождающей «нечистые намерения», системы ценностей, – это фундаментальное для учения Просвещения и идеологии либерализма утверждение самодостаточности индивида. В гегелевской терминологии это звучит так: «положительная истина Просвещения, вообще», есть «исключённая из абсолютной сущности (то есть оторванное от связи с Богом-абсолютом – С. Г.) единичность сознания и всякого бытия, как абсолютного бытия в себе и для себя»[404 - Там же. С. 286.].
Поскольку «единичность» сознания абсолютизируется в себе и для себя, отношения с Богом оказываются исключительной прерогативой этой «единичности», – индивида как такового. Соответственно, либеральная идеология, черпая из «сокровищницы идей» Просвещения и применяя их к общественно-политической сфере жизни общества, объявляет религию, – частным делом. Революционный характер этого принципа часто недооценивают, вообще, он кажется достаточно безобидным. Однако это один из важнейших элементов той «заразы», которая разъедает органыдуховной жизни. И дело даже не в том, что на практике, в действительности все религиозные культы всегда и везде отправлялись в коллективной форме и либерализм требует чего-то совершенно нетрадиционного, небывалого. В данном случае революционность заключается не просто в небывалой новизне (в конце концов, можно сказать, что всё когда-то бывает впервые), а в противоречии этого требования логике и здравому смыслу, в его несоответствии самому понятию религиозной жизни. Принцип «религия – частное дело» принципиально означает, равнозначен принципу «у каждого свой Бог». Религия же, по определению, есть связь, – и не только практически, но и принципиально может существовать только в общине. Религиозная служба – определенный ритуал связи с сакральным, как таковой, требует определенных знаний и определенной организации. Эти последние, в соответствии с понятием, предполагают известную объективность и иерархию. Во всяком случае, немыслимы в качестве производных сугубо субъективной продуктивности, поскольку в этом случае, «бог» окажется «во власти» индивида, простым продуктом его произвола. Отношение человек-Бог, таким образом, будет «перевернуто». Этим и определяется принципиальная революционность и принципиальная же «нечистота намерения» (чтобы не сказать больше) либерального требования провозгласить религию «частным делом».
Впрочем, либерализм не требует прямо, чтобы у каждого был «свой Бог» (хотя именно эту формулировку сегодня часто можно услышать от носителей «развитого» либерального сознания), он хочет только дать возможность каждому верить по-своему, самостоятельно, без посредников общаться с Богом. Либеральная идеология хочет видеть религиозную общину чем-то вроде добровольного союза, «религиозно-общественного договора» свободных и равноправных верующих. Поэтому «критике» подвергается, прежде всего, церковная организация, – «гадина», которую надо «раздавить», – таково, как известно, требование одного из самых громких глашатаев Свободы. Уже Реформация, эта мать Просвещения, выступала с проповедью договорных отношений в Церкви и против церковной иерархии. Их внук и сын, либерализм, превратил эти положения в догму и развил в политическое требование отделения церкви от государства. Это отделение в окончательной перспективе должно было превратить церковь в некое подобие частного клуба по интересам.
В этой связи, надо сказать, что и в практическом отношении представление, согласно которому религиозная вера возможна «без» и «вне» религиозной организации, неосновательно и, может быть следствием либо недоразумения, либо лукавства. Всегда и везде священнодействие требовало профессионалов, – шаманов, знахарей, жрецов. Их специально обучали, им передавали специальное сакральное знание, у них, как считалось, были «от рождения» и развивались особые психические и физиологические способности. Так было и есть в любой традиционной культуре, и, в качестве остаточных явлений, сохраняется по сей день, даже в самых выхолощенных версиях протестантизма в форме «теологического образования» священнослужителей. Нетрадиционно ориентированный либерализм считает эту общечеловеческую практику, в принципе, неправильной. И он немало потрудился для ее разрушения. Не столько попытками «раздавить», – эта прерогатива была передана «младшему брату» – социализму, сколько излюбленной тактикой постепенных, незначительных, но неуклонных изменений, незаметного распространения «заразы», если воспользоваться выражением Гегеля. Друзья свободы – защитники (руководствовавшиеся естественно благими намерениями) прав, стали пропагандировать и отстаивать то положение, что каждый, на равноправной основе, может и должен читать и понимать/толковать Слово Божие. Библию стали переводить на «родные языки», учреждались «Библейские общества», занимавшиеся просветительской деятельностью с тем, чтобы сделать Слово Божие общедоступным. Процесс этот продолжается и сегодня, число различных переводов растет, язык их постоянно модернизируется, осовременивается, в целях «доступности», конечно.
Таким образом, либерализм и здесь «переворачивает» естественное положение дел. Если любая традиция считает, что человек должен стремиться, приближаться, идти к Богу, то идеология свободолюбия игуманизма хочет приближать, привести Бога к человеку. Последнему незачем куда-то идти (самосовершенствоваться), Бог и так должен быть емудоступен. Непонятен язык священных текстов? Не надо ничего учить, – переведем на «родной». Перевод слишком сложен? Опять же, не надо напрягаться, упростим, в соответствии с духом времени, даже Библию в комиксах создадим. Переворачивая отношение долженствования, либерализм требует от религии (если, конечно, она хочет сохранить свое значение) бытьполезной человеку, фактически служить ему. Это означает, что впервые в истории священное(всеобщее) должно найти свое оправдание у единичного и фактически низводится до средства удовлетворения желаний, того или иного конкретного индивида. Эта уникальная специфика цивилизации нетрадиционной ориентации, разрушающая важнейший стимул самосовершенствования человека может означать конец не только религии, но и традиции вообще, а, тем самым, и человеческой истории как таковой.
Либерализм и мораль, и культура. В нетрадиционном обществе культурой либерально называется всё. Всё, – от сакрального ритуала до экскрементов художника сваливается в «одну кучу» и оказывается «феноменом культуры». Так стираются грани, размываются и уничтожаются критерии, исподволь, шаг за шагом, разрушается сама способность к различению, составляющая сущность духовной и интеллектуальной деятельности. Вообще, различие как таковое, – это метафизическое основание не только культуры, но и бытия вообще, – является действительным онтологическим врагом нетрадиционно ориентированного духа, устремленного к энтропии равенства без-различия. Это либеральное без-различие своим практическим основанием имеет отрицание нормы. Нормы как таковой, дискредитацию самого её понятия. Сегодня оно, «без долгих разговоров», объявлено тоталитарным.
Если культура вообще начинается с табу, которые служат основанием дальнейшего морального различения и нормирования, то для современной цивилизации, культура есть нечто прямо противоположное. Её сущность представляют как «снятие табу», освобождение от запретов, а её прогресс – как всё более расширяющееся, вплоть до беспредельности, толкование понятия нормы. Поскольку экзистенциальный смысл последнего как раз и заключается в установлении различения, он постепенно растворяется в процессе этого стремящегося к беспредельности расширения. Таким образом, методом распространения «ароматной заразы», осуществляется экзистенциальная нормализация ненормального. Либерализм, очевидно, не устраивает библейское «да/да– нет/нет», он акцентирует именно «остальное». Одним из конкретных практических средств такой нормализации являются призывы к «терпимости», которые либерализм не устает повторять. Толерантность является основополагающей категорией нетрадиционной морали. Начав с призывов к «веротерпимости», либерализм, придя к господству, отбросил уточняющую «приставку» «веро» и сегодня призывает просто к терпимости, рекомендует, (причем, все более настоятельно, чтобы не сказать нетерпимо) вообще быть терпимым. Это требование – №1 в неписаном уставе либеральной жизнедеятельности. Важнейшая отличительная черта современного культурного цивилизованного человека. Необходимое, а сегодня уже, по-видимому, и достаточное условие получения этого выдаваемого либерализмом «аттестата».
Но что может означать призыв к терпимости вообще? Спрашивается, к чему в действительности призывают? Если речь идет о терпимости к тем «точкам зрения» и проявлениям, которые по существу своему не имеют отношения к различению добра и зла, не релевантны сфере морального суждения, то такой призыв совершенно излишен. Ни один вменяемый человек, очевидно, не будет проявлять нетерпимость к мнению, что на Марсе когда-то была жизнь или к человеку, любящему развлечься на досуге игрой в шахматы. Презумпция вменяемости заставляет предполагать, что адепты либерализма имеют в виду терпимость не такого рода. Для чего же тогда пестуется и насаждается толерантность, что именно предлагается терпеть? Вопрос, вообще говоря, что называется, риторический и ответ на него вполне очевиден. Но либерализм, конечно, никогда не признает, что он призывает попустительствовать злу. Для того чтобы «откреститься» от этого обвинения, вытекающего в качестве логически необходимого следствия из призывов к (возможно большей) терпимости, либерализм утверждает «относительность понятий добра и зла», стремится снять различение добра и зла, как таковое. Дело, таким образом, заключается не столько в том, чтобы отучить человека противостоять злу, сколько в том, чтобы научить не замечать его. Убедить человека в том, что зла, собственно нет, это только слово, и, в конечном счете, разрушить, присущую человеку способность морального суждения, основанного на различении добра и зла. Здесь нельзя не вспомнить знаменитый тезис одного из врагов «открытого общества» Аристотеля о том, что «только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п.» и именно «это свойство людей отличает их от остальных живых существ»[405 - Аристотель Соч. Т.4. С.379.]. Если способность морального суждения отличает человека от животных, то ее разрушение, очевидно, объективно, вне зависимости от, возможно благих намерений друзей терпимости, ведет к его превращению в некоего биоробота, – во владеющего строго определенными навыками оператора по производству и обслуживанию разного рода технических изделий.
Либерализм и искусство. Искусство в своем истоке сакрально и вдохновляется стремлением к высшему, к красоте. Но либерализм не хочет знать, не только ничего святого, но и ничего высшего. Он ищет и находит «земные», материальные корни всех явлений человеческой жизни. Но даже в таком «материалистическом» варианте, трудно отрицать, что искусство обращено к духовному миру человека, к его душе. И если считать, что человек должен «развиваться», «стремиться стать лучше», то искусство, очевидно, должно помогать ему в этом. Искусство тогда есть, – в этом его сущностное предназначение, – средство, способствующее душевно-духовному эмоциональному становлению, развитию человека, вектор, направляющий его движение вверх, к лучшему, к некоему идеалу. Но либерализм не считает, что человек вообще «что-то должен», более того, проповедует, что человек каждый всякий, каков он есть, и так достаточно хорош. Да и кто сказал «лучше», спрашивает он? Что это значит? Человек сам решает, что для него лучше. Тезис, заметим здесь, очевидно, ложный, по меньшей мере, в отношении детей и подростков, которые ведь тоже «человеки». Но развитой либерализм 21 века этим не смутишь, он не зря говорит о «правах ребенка» и с детского сада учит высказывать «свое мнение». Главное – он не хочет знать никаких идеалов, их не существует для него. Одно из любимых его занятий, это, как раз, «развенчание» идеалов, осмеяние их. Иметь идеалы в нетрадиционном обществе, означает быть «не от мира сего», проявлять некоторую интеллектуальную недалекость или странность. Поскольку у либерализма нет идеалов, он отнимает их и у искусства, то есть, собственно, разлагает его. Он переворачивает традиционное естественное отношение искусства и человека. Если прежде человек должен был «тянуться к искусству», учиться его воспринимать, развивать свои способности, чтобы быть в состоянии его понимать, то в либеральном обществе, искусство, напротив, опускается до уровня «среднего человека». Оно теперь должно подстраиваться под него, под его вкусы и потребности, должно, вообще говоря, научиться соответствовать настроениям и пожеланиям массы, стать предметом потребления или исчезнуть.
Если прежде считалось, что искусство творится гением и для творчества необходимо вдохновение, то в современном обществе правит бал «креативность», – демократический суррогат гениальности. Здесь все «креативны», у каждого есть «творческие способности». Либерализм не хочет знать самого понятия «гений», «творческий человек», его мир – это мир без творца. Гении не менее чужды либерализму, чем идеалы. Он метафизически и экзистенциально противостоит им. Как верно было замечено, гений и либерализм еще более «несовместны», чем гений и злодейство. Если идеалы либерализм осмеивает, «опускает на землю», то гениев подменяет. Их место занимают «звезды», популярныеперсонажи, производимые индустриальным способом на соответствующих «фабриках». В «обществе свободы и равенства» производство произведений искусства ставится «на поток». Либерализм делом, на практике, «доказывает», что все люди «от природы» обладают «творческими способностями».
Для этого разработана чёткая и неукоснительно соблюдаемая система оценивания, – поощрений, награждений и наказаний. Это система всевозможных премий, фестивалей, заказов[406 - Здесь можно вспомнить «госзаказ» в советском искусстве.] и закупок произведений искусства. Показательна, в этой связи (о продукции Голливуда не стоит, очевидно, и говорить), знаменитая Нобелевская премия по литературе. То, что она всегда была идеологизирована, убедительно показал В. В. Кожинов в работе с говорящим названием «Нобелевский миф»[407 - См. Кожинов, В. В. Судьба России. М., 1999. С. 262-277.]. А в последние годы присуждение этой премии представляет собой прямо-таки апофеоз «политкорректности» и «гендерного равенства», в котором собственно литературе, художественным произведениям остается все меньше места. Доказывать это тому, кто «не хочет видеть», очевидно, не имеет смысла. Для иллюстрации же приведём характерное высказывание российской писательницы Т. Толстой, назвавшей недавнее присуждение нобелевской премии по литературе бывшей советской журналистке, известной своей борьбой за свободу и демократию, – «очередным плевком в литературу». В гротескной форме борьба современного искусствас гением, когда «гения» делают буквально из «ничего», из «пустого места» показана писателем и публицистом Ю. А. Поляковым в повести «Козлёнок в молоке».
Либерализм, таким образом, с одной стороны, разлагает, вульгаризирует искусство (демократизирует, как он говорит), а с другой, закономерно превращает его в средство идеологической борьбы, «промывки мозгов». Причём не только для разрушения традиционной морали, когда «передовое искусство» означает нецензурную брань, демонстрацию интимных частей тела и рекламу гомосексуализма и кровосмешения, но и для «доказательства» правильности своих принципов, прежде всего, равенства и, конечно, свободы. Для пропаганды этих ценностей сфера искусства особенно значима. Либерализм и здесь остается верен себе, пропагандируя всеобщую «креативность», он не устает отстаивать также и «свободу творчества». Делая «гениев из ничего», он, в дополнение к этому, «разрушает стереотипы», «отвергает догмы»-каноны и «стирает грани», учит «видеть красоту даже в безобразном» и уничтожая, тем самым критерии различения, подавляет способность эстетического суждения как таковую. Либерализм не знает плохого и хорошего вкуса (также как вообще «плохого и хорошего» и даже «нормального и ненормального»), для него все вкусы разные, «у каждого свой» и только. В нетрадиционном обществе, вообще говоря, всё, любые проявления человеческой жизнедеятельности, может быть приписано к искусству. Здесь рождается «поп-искусство» и появляется «масскультура». Они уже почти откровенно не являются искусством, всё больше становясь производством, превращаясь в «шоу-бизнес». В этой сфере уже не создаются произведения по вдохновению, а «реализуются проекты» по схеме и калькуляции. Характерные явления: «фонограммные певцы», бесконечные телесериалы и «женские романы» для убивания времени в метро.
С другой стороны, либерализм порождает «элитарное искусств». Оно представлено, в основном, абстракционизмом-постмодернизмом, то есть фильмами, которые могут смотреть только «киноведы», книгами, которые неизвестно кто читает, «картинами» на которых отсутствует изображение и безмелодийной музыкой. Это «искусство» также как и «массовое» не имеет отношения к подлинному, но, в данном случае, это тщательно скрывается. Дело в том, что если у «популярного искусства», цель – предоставлять зрелища, вообще развлекать (и отвлекать), то «элитарное» предназначено для другого. Его функция сугубо идеологическая, оно должно показывать «устарелость», еще лучше, вредоносность традиционных, вообще привычных ценностей и норм, и пропагандировать новые (инновационные), нетрадиционные ценности. Прежде всего, для него изобретен характерный либеральный концепт – «современное искусство». Современная живопись, современный театр, роман, музыка, танец и т.п., – этого магического слова-заклинания вполне достаточно, чтобы отбросить (либо как неэстетические, либо прямо как реакционные) любые возможные обвинения в непрофессионализме или безнравственности. Искусство, которое стремится облагораживать, возвышать или хотя бы воспитывать вкус, с «элитарной» точки зрения оказывается архаичным или того хуже, «тоталитарным». В современном обществе, где каждый и так вполне благороден (или вовсе и не стремится к благородству) и обладает достаточно хорошим (не хуже, чем у других) вкусом, оно становится ненужным. Искусство, таким образом, подавляется, превращается в удел чудаков, маргиналов, – несерьезное занятие, в лучшем случае вытесняется в любительство или кое-как реанимируемый фольклор. Это подавление, собственно, и осуществляется соединенными усилиями «популярного-массового» и «элитарного» искусства. Тем самым, в нетрадиционном обществе замена натуральных «пищевых продуктов» генномодифицированными дополняется также и подменой нормальной традиционной «духовной пищи», пищей «генномодифицированной», что, очевидно, не может не вести к производству все более нетрадиционного, «модифицированного» человека.
Либерализм и экономика. «Экономика» – это «первая любовь» либерализма. Он хочет видеть ее в качестве основополагающей сферы общественной жизни, а человека, прежде всего, субъектом «экономической деятельности» и «отношений». В каждом социальном явлении либерализм хочет раскрывать «экономическую подоплеку». Это он называет «научным объяснением». «Первичность» экономики он обосновывает тем, что «люди, прежде всего, должны есть, пить и одеваться», забывая, правда объяснить, почему животные, которыми тоже движет голод, не занимаются «экономической деятельностью». «Собственность» – единственное слово, к которому либерализм применяет эпитет «священная» без иронии и «скрежета зубовного». А еще он превращает экономику в науку. «Теоретическим источником» этой последней являются, главным образом, учения «идеолога буржуазии» А. Смита и «идеолога пролетариата» К. Маркса. Возникнув не ранее 20 века, наука экономика сегодня стала одной из важнейших социальных наук и, по совместительству, важным политическим рычагом и средством пропаганды либеральной идеологии в сфере образования и в СМИ.
Само слова «экономика» либерального происхождения и весьма либерально по духу. Смысл его очень широк и подвижен, трудноуловим. Применяется оно очень свободно и может претендовать, по меньшей мере, на второе место в рейтинге неопределенности, вслед за словом «социальный». Характерно, что в словаре традиционного общества это современное понятие отсутствует. Греческое «oekanomik» означает, как известно, ведение домашнего хозяйства. Еще А. Смит писал не об «экономике», а о «богатстве народов». В русском языке слово «экономика» появилось только после революции, в китайском и японском, например, также только вследствие модернизации и вестернизации. Подменяя домашнее хозяйство, вообще привязанное к конкретному понятие «хозяйство» абстрактной «экономикой», либерализм неявно переориентирует производство, устремляет его в дурную бесконечность прибыли как самоцели. Если хозяйство традиционного общества было ориентировано на удовлетворение естественных потребностей человека и в своем «развитии» учитывало «внеэкономические» факторы (религиозно-нравственные, гармоничного природопользования и т.п.), то экономика нетрадиционной цивилизации «развивается» за счет искусственных потребностей, вынуждена наращивать темпы потребления невосполнимого вещества природы и, отравляя «окружающую среду», закономерно ведет к «экологическому кризису» с дальнейшей перспективой гибели «человечества».
Но дело не только в «экологическом кризисе», подлинной причиной которого является господство либеральной идеологии, культивирующей индивидуализм, неизбежное следствие которого – потребительское отношение к природе. В основе «экономики», как ее не определяй, лежит труд, а, кстати, и фигура хозяина. Но либерализм постепенно заменяет хозяина (веберовский тип капиталиста-протестанта, например) наёмным «менеджером», вообще наёмным работником, «продавцом рабочей силы», его тип, основной фигурант нетрадиционной экономики, – это не столько предприниматель, сколько финансист, не хозяин, а делец, если употребить старое русское слово. И главное: либерализм практически отменяет необходимость трудиться. Труд в нетрадиционном обществе оказывается подчинен досугу. Здесь работают, чтобы отдыхать, то есть целью деятельности становится отдых от нее, собственно бездеятельность. Переворачивая традиционное отношение труда и отдыха, либерализм, по сути, обессмысливает труд, лишает его статуса экзистенциально необходимого. Если прежде труд был естественной необходимостью, способом существования человека, средством его самореализации и самосовершенствования, то сегодня он превратился только в средство добывания «средств к существованию». Поэтому в «свободном обществе» возникает стремление освободится от труда, ставшего для современного человека сугубо внешним требованием. Здесь формируется представление, что надо заниматься «любимым делом», только тогда труд не в тягость.
Поскольку в нетрадиционном обществе труд утрачивает свое нравственное измерение, главным, по сути, единственным, критерием его «общественной значимости» становится не качество, а количество – сумма добываемых денег. Соответственно, здесь всё объявляется трудом, разновидностью «экономической деятельности». Всё называется просто профессией, такой же, как и другие, и всё сваливается в одну кучу: офицеры и проститутки, футболисты и шоумены, артисты варьете и врачи, учителя, сталевары. Здесь в «постиндустриальном обществе» возникает целая «секс-индустрия», появляются даже «суррогатные матери». Все профессии важны, все профессии нужны. Профессия учителя или сталевара, правда, все реже становится «любимым делом». Зато таковым в результате либерального «переворачивания» все чаще оказывается отдых. Если в традиционном обществе труд был «делом чести, доблести и геройства» и самоутверждение человека заключалось в ответе на вопрос «что ты создал?», «что ты можешь сделать?», то сегодня производительный труд, едва ли не удел неудачников. Свободные граждане нетрадиционного общества самоутверждаются не всозидании, а в потреблении. Не то, что ты создал, а достигнутый тобой уровень потребления, не столько то, где и как ты работаешь, сколько то, где и как ты отдыхаешь, – вот что сегодня, прежде всего, характеризует человека, говорит об уровне и достоинстве его личности и в его собственных глазах и в глазах окружающих.
Современный человек погряз (или мечтает об этом) в путешествиях, перелетах-переездах, отелях-ресторанах, пляжах-сафари и горных лыжах и, конечно, в «шопингах». Его «самореализация» – это лежание в шезлонге у «ласковой волны» и катание по белоснежным склонам, «много женщин и машин», как пел когда-то В. Высоцкий. И\или, конечно, «много мужчин и машин» следует добавить в век торжествующего «гендерного равенства». Характерное для развитого либерального общества демонстративное, «имиджевое» потребление, заметим, несвойственно, классическому, во всяком случае, восходящему капитализму с его протестантской бережливостью и опорой, в значительной степени, на традиционные ценности. Последними, наверное, представителями такого капитализма были Г. Форд, 30 лет ездивший на одном автомобиле, и создатель ИКЕА И. Ф. Кампрад, покупавший продукты в обычном магазине. «Консюмеризм» же современной бизнес-элиты с её поместьями, яхтами и «девушками» напоминает, скорее, превращенную форму архаичного, демонстративного потребления вождей африканских племен и восточных царьков, выставлявших напоказ свое «благосостояние» и негу.
Замена человека созидающего, человеком потребляющим-отдыхающим[408 - Идеальный тип человека-массы либеральной цивилизации], производимая либерализмом в рамках нетрадиционной цивилизации, подрывает, таким образом, даже капиталистическое производство. Последнее, соответственно, переносится на Восток в страны с еще сохраняющейся традиционной моралью. Но такая мера в свете успехов глобализации и модернизации, очевидно, может дать только временный эффект. Поскольку он будет исчерпан, вышеуказанная замена может означать только одно: окончательный приговор цивилизации вообще, если, конечно, считать, что человек должен в «поте лица своего зарабатывать хлеб свой» или хотя бы, что его «создал» труд.
Либерализм и спорт. Характерным феноменом современной цивилизации (и показательным в отношении либерального «переворачивания» вообще, и труда и отдыха, в частности) является феномен спорта, – этого то ли труда, то ли досуга, и профессии, и игры. Скажем поэтому несколько слов на эту, вроде бы, «не идеологическую» тему.
Спорт есть продукт, изобретение либерализма, одно из его любимых детищ. Именно либерализм превратил спорт в профессию и придал ему ту роль, которую он играет сегодня в общественно-политической жизни. Исторически, спорт, как социальное явление в европейской культуре, возникает не ранее второй половины 19 века в либеральной Англии. А его дальнейшее развитие, рост его значения в 20 веке становится все более «бурным», в полном соответствии с ускорением «победного шествия» либерализма в последние полтора столетия. Показательным, в этом отношении, стало возрождение и развитие «олимпийского движения». Сегодня спорт, в либеральной культуре-цивилизации играет совершенно ту же роль, что и бои гладиаторов, вообще цирковые представления во времена поздней Античности. Он предоставляет зрелища, обеспечивая, таким образом, современному «плебсу», человеку-массе не просто «развлечения», но и содержание-смысл существования, давая ему «пищу для размышлений» и «эмоциональных переживаний», производит новости, позволяя ему заполнить досуг. Спорт дает возможность не только «эмоциональной разрядки», но также и возможность ощутить то, чего так не хватает либеральной культуре,– «чувство сопереживания», «единства» (в том числе, и «национального»), которые, тем приятнее, что, будучи по существу суррогатными, всегда остаются сугубо поверхностными, ситуативными и, в принципе, не угрожают комфорту «болельщика», (фаната, как сегодня говорят), не требуя от него ни поступка, ни дела. Но спорт «любим» либерализмом не только за это. Современные спортсмены делают гораздо, больше чем когда-то гладиаторы в древнем Риме. Спорт, сегодня, – один из главных «агентов» глобализации, проводников «мультикультурализма», – он «стирает границы», расширяет «молодежные контакты», вообще, всячески способствует «единству человечества», которое с огромным интересом следит за трансляциями Олимпиад и «Мундиалей».
Но и это еще не всё и, может быть, даже, не самое важное. Современный спорт во все большей степени становится фактором разрушения морали, особенно мотивации к упорному производительному труду. То, что занятие спортом не должно становиться профессией, еще недавно интуитивно ощущалось общественным сознанием, нелиберальным его сегментом. Этого профессионализма, как известно, «стеснялись» в СССР, да и в той же Англии, в 60-е гг. «зарплата» футболиста была немногим больше заработной платы высококвалифицированного промышленного рабочего. Сегодня спортсмен, – едва ли не самая высокооплачиваемаяпрофессия. Если когда-то гладиаторами, профессиональными спортсменами были, как правило, рабы, разного рода изгои, вообще люди с низким социальным статусом, то в либеральном обществе, спортсмен – это один из самых высоких социальных статусов. Последствия этого «социального достижения» либерализма для трудовой этики предсказать, очевидно, не трудно. Но дело не только в «экономике». Спортсмены сегодня, – одни из «лидеров» общественного мнения. Они – «посланцы мира», «благотворители», они высказываются по политическим вопросам, формируют стереотипы «массового сознания» и задают его носителям эталоны поведения. Более того, они нередко становятся национальными героями. Их награждают орденами, им дают почетные звания и государственные посты. И это, отнюдь не случайная практика. Напротив, в ней можно увидеть проявление принципиальной (ведь «люди по природе равны») либеральной установки на «развенчание» героев. Героизацияспортсменов, с этой точки зрения (вполне в духе либеральных методов, когда, например, «деидеологизация», оказывается, в действительности средством идеологизации, – продвижения либеральной идеологии), есть не что иное, как один из способов дегероизации общественного сознания. Если для того, чтобы стать «героем» достаточно научиться ловкому обращению с мячом или с шайбой, то понятие героизма приобретает, очевидно, слишком «широкое значение» и, во всяком случае, обесценивается. Таким образом, происходит смещение и девальвация всей системы моральных ценностей, поскольку понятие «герой», и только оно, задает вектор морального совершенствования, духовной самостоятельности и внутренней свободы личности. Тем не менее, либерализм, очевидно, вполне готов обходиться «героями спорта»[409 - «Мы верим твёрдо в героев спорта», – как пелось, в свое время, в популярной советской песне. Эта «вера в героев спорта», заметим, еще одна явная точка пересечения либеральной и социалистической идеологий.], в его системе нравственных координат, как и для лакея, не существует героя или, что то же самое, логически, да и практически, – «героем может стать каждый».
Моральной дезориентации, размываниюкритериев, способствует, заметим, даже принятое в спорте словоупотребление, когда, например, говорят победа, вместо выигрыш; «воля к победе», «отстаивают честь страны», «отдают все силы борьбе» и т.п. Все это, опять же, не может не девальвировать смысл высоких, необходимых человеческому духу, его свободе, понятий: «победа», «воля к борьбе», «честь страны». И это не говоря уже о том, что экспансия спортивной лексики в «речевую коммуникацию» интернационализирует, вульгаризирует и упрощает её или, как можно было бы, наверное, сказать, в русле хайдеггеровской мысли, – служит одним из средств «выталкивания» подлинной речи, живого языка в забвение. В ракурсе «морального измерения» приходится обратить внимание и на такие, специфические для современного спорта проявления, как «допинговые скандалы», политически мотивированные решения «международных спортивных организаций» и ставшие обыденностью мелочи, вроде ставок на тотализаторе, подкупа спортсменов и судей, что также не способствует, очевидно, укреплению общественной морали.
И в завершение описания современной цивилизации краткая характеристика её политической сферы. Либерализм и политика это, конечно, необъятная тема. Мы здесь ограничимся простой фиксацией лишь некоторых особенностей современной политической жизни.[410 - См. также: Политика как феномен современной цивилизации\Проблемы управления. № 3, 2009. С. 107-112.] Вообще говоря, «официально», либерализм не очень жалует политику. Он утверждает, что она есть просто «концентрированная» экономика, часто называет её «грязным делом» и не устаёт вкрадчиво советовать простому обывателю, что бы тот «не лез в политику». И, надо сказать, что демонстративно прохладное отношение к последней, далеко не случайно для либеральной идеологии. Поскольку она отрицает необходимость сакрального основания общественной жизни и провозглашает принципы свободы иравенства, управление обществом как таковое оказывается проблематичным, чтобы не сказать невозможным. Дело в том, что эрозия религиозности, отрицание сакрального, вообще, объективно ведет к распаду морали, являющейся необходимым средством регулирования человеческих взаимоотношений. Философски, это, как известно, было обосновано Кантом, а в системно-теоретической, научной форме,– Н. Луманом, отметившим, что «мораль вынуждена прятать свои основания в некоммуницируемые таинства религии»[411 - Луман, Н. Общество общества. Т. 1., М., 2011, С. 257. Также см.: там же: Тайны религии, с. 248-267.]. Что касается свободы, то либерализм, как известно, понимает её сугубо индивидуалистически, негативно, как свободу «от». Для такой свободы власть, вообще другие, собственно говоря, общество, всякая норма, является препятствием. Но, главное, – это равенство абстрактному самосознанию которого «противен», как говорит Гегель, любой социальный институт, как таковой. Очевидно, что действительное равенство не может не означать снятие различения управляющих и управляемых. В обществеравных управлять должны были бы все, то есть никто, – это было бы неуправляемое общество, что и отмечает Гегель: «последовательный принцип равенства отвергает все различия и, таким образом, не даёт существовать никакому виду государственного состояния»[412 - Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 352.].
Поскольку публично декларируются принципы, неприменимые практически, к реальной политической деятельности, последняя должна оставить сферу публичности. Либерализм, таким образом, уводит реальную политику «за кулисы», она, соответственно, действительно становится «грязным делом». «Закулисный торг», «двойные стандарты», «закрытые клубы» и «тайные общества», разного рода «партийные сговоры» и «продажность политиканов», – все эти идиомы политического лексикона наших дней неслучайны и обозначают характерные явления современной политики. Явления не эпизодические, порождаемые «плохими парнями», а закономерные, неизбежно возникающие в либеральной системе политических координат. Очевидно, должно быть, что если публично заявленные принципы государственного устройства входят в противоречие с объективно необходимыми принципами организации управления, как такового, то первые неизбежно останутся лишь декларациями. Управление социально-политическими процессами, безусловно, должно осуществляться. И если какие-то формальности, пусть даже и «закрепленные в Конституции» ему препятствуют, то оно будет осуществляться посредством неформальныхрычагов, уйдет с официальных «переговорных площадок» и «мест для дискуссий» в негласную тишину кулуаров, а на «площадках для дискуссий» останутся исполнители, причем, как правило, те, на которых можно воздействовать, в том числе, и «незадекларированными» неформальнымиметодами. То, что предлагается публике, «электорату» зачастую представляет собой просто игру, розыгрыш, сугубо сценический симулякр, срежиссированный и отрепетированный умелыми «кукловодами».
На этот счет, как известно, много и красочно писали французские постмодернисты. Так, Ж. Бодрийяр отмечая, что современная политика – это сфера «симуляции, а не репрезентации», пишет: «в действительности, политическое уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который разыгрывается перед обывателем»[413 - Бодрийяр, Ж. Конец социального. Екб. С. 26, 45.]. Поскольку те, кто принимают решения, как правило, остаются «за ширмой», сфера политики в нетрадиционном обществе оказывается сферой безответственности. Виноватым, в конечном счете, всегда остается «народ». Ведь это он избирает «правителей». А с другой стороны, у «народа» всегда есть возможность «исправить свою ошибку», – на следующих выборах он может проголосовать за «более достойного кандидата». Безответственность современных политических деятелей, таким образом, получает принципиальную легитимацию, и даже моральное обоснование. Ведь каждый из них является только проводником волинарода и не имеет права принимать решения, противоречащие ей, то есть, вообще говоря, и не должен брать ответственность на себя. Внешним образом, стремление нетрадиционных политиков представить себя исключительно в качестве «проводников» проявляется в характерном для них обращении к электорату: «я один из вас», в «демократическом стиле» поведения и т.п. Показательно и то, что среди либеральных деятелей практически нет ярких политических лидеров, вообще крупных личностей. Впрочем, эта безликость, иногда даже какая-то нарочито-показушная серость, как раз и предопределена тем, что сильная личность, по определению, отличается способностью и стремлением брать на себя ответственность.
Так как публичная либеральная политика фактически деперсонализирована, это облегчает для нее самопредставление в качестве не того, что она есть, а как действительного осуществления «воли народа» (которая деперсонализирована, по определению). Это, в свою очередь, дает возможность представлять принимаемые политические решения, как «объективно закономерные», «неизбежные в данной ситуации», «не имеющие разумной альтернативы»[414 - Пример из нашей недавней истории, знаменитый «перестроечный» сборник статей реформаторов СССР «Иного не дано», – не предусматривающая апелляций и не терпящая альтернатив либеральная директива.]. Иными словами, политические решения, не имея официального авторства, превращаются в безличные и на этом основании подаются «народу» в качестве не политических, аобъективных, «требуемых самой жизнью», «необходимостью экономического развития» (в этом случае политическое решение предстает в «одежде» рекомендаций экономической науки) и т.п. В дальнейшей перспективе эта, приравненная к объективности, безличность принимаемых нетрадиционной элитой политических решений, переносится на порождаемые и стимулируемые этими решениями политические процессы. Последние также оказываются не политическими, а объективными, закономерными, необходимым следствием «экономического развития», «технологической революции». Самый известный пример такой «объективации» – «процесс глобализации», объявленный либерализмом (и социальной наукой) закономерным естественным процессом, – «железной необходимостью», столь же неизбежной, как восход Солнца или, по меньшей мере, обещанная ранее «Научным коммунизмом» «победа Коммунизма».
Не входя в сколько-нибудь подробный анализ феномена глобализации, отметим лишь, что, она, что называется «по определению» отрицает любые цивилизационные альтернативы и, по существу своему, очень похожа на то, что сто лет назад называлось «Мировой революцией». Методы, конечно, разные, но заявленные цели-предполагаемые результаты, принципиально те же. Это и образование «Мирового рынка», «законы которого диктуют» и т.п. и формирование наднациональных органов власти – институтов глобального управления, закономерно сочетающееся с все более полным ограничением государственного суверенитета и, конечно, «окончательное торжество» принципов свободы и равенства. Всё это, как собственно и сама постановка вопроса, о «победе во всемирном масштабе», явным образом, на практике демонстрирует сущностное совпадение либеральной и социалистической идеологий. Фактические обстоятельства и конкретно-политические механизмы, раскрывающие и обеспечивающие это совпадение, систематически описаны и проанализированы, в частности, И. Валлерстайном в работе «После либерализма». Описывая ход истории в 20 веке, он показывает, что США и СССР были встроены в единую миро-систему, в которой последний играл подчиненную роль. Даже в случае с Китаем, казалось бы, одном из стратегических успехов «коммунистического антиимпериалистического» движения: «реальная озабоченность США была связана не с тем, что Китай теперь станет марионеткой СССР, а с тем, что он ею не станет»[415 - Валлерстайн, И. Указ. Соч. С. 176.]. О коммунистических и «национально-освободительных» движениях Валлерстайн пишет, что хотя все они «противостояли гегемонии США и существующей миро-системе, но, тем не менее, действовали в базовых рамках просвещенческого мировоззрения 18 века. Они были против системы, но принадлежали ей. Вот почему, в конечном счете, приходя к власти, они все могли без особых трудностей инкорпорироваться в продолжавшие свое развитие структуры системы»[416 - Там же. С. 179.]. Подчеркивая идеологическую близость США и СССР, их интегрированность в единую миро-систему, американский исследователь говорит также о: «советском суб-империализме и его сговоре с США»[417 - Там же. С. 177.].
Этот политический «сговор» «капитализма» с «социализмом» и показывает на деле принципиальное единство двух идеологий, точнее двух разновидностей одной идеологии. То, что «Социализм» и «Капитализм» – именно разновидности отмечал, в частности, А. Ф. Лосев. Не имея в своем распоряжении фактов известных И. Валлерстайну, он в период, когда о «мирном сосуществовании» «двух идеологий» не могло быть и речи, писал о «буржуазном, по природе, социализме»[418 - Лосев, А. Ф. Из ранних произведений. С. 440.]. Чётко и вместе с тем образно, тезис о принципиальном единстве либералов и левых формулирует К. Шмитт: «У крупного предпринимателя нет иного идеала, кроме того, что есть и у Ленина, а именно «электрификация всей земли». Спор между ними ведётся только о правильном методе электрификации». Американские финансисты и русские большевики соединяются в борьбе за экономическое мышление»[419 - Шмитт, К. Политическая теология. С.116.]. Многочисленные примеры союзов (не будем говорить о «сговорах») либералов и социалистов предоставляет и политическая практика наших дней. Назовем только самые красноречивые: очередная «большая коалиция» в Германии, когда «христианские демократы» объединяются с «социальными», с целью не допустить альтернативу; фактическое превращение «вигов» в придаток лейбористской партии в Англии; призыв бывшего президента республиканца Дж. Буша-мл. голосовать на выборах 2016 года за кандидата от демократов. Что касается политического класса США, в целом, то приверженность подавляющего большинства его представителей, не только демократов, но и так называемых неоконсерваторов, либеральной идеологии (которую при Обаме было всё труднее отличать от социалистической) достаточно убедительно показана П. Бьюкененом в работе «Правые и не-правые»[420 - См. Бьюкенен, П. «Правые и не-правые». М., 2006.].
Подобные примеры можно было бы множить, отмечать еще более красноречивые детали заключения политических союзов. Но дело, конечно, не в деталях. Чтобы не лежало на поверхности, направляющее воздействие всегда будут оказывать основополагающие принципы. А они у либеральной и социалистической идеологий, как было показано нами в ходе философского анализа их концептуально-теоретических оснований, – общие. В этом и заключается фундаментальная причина схожести «Глобализации» с «Мировой революцией». Отличие же внешних форм этих «всемирно-исторических процессов» обусловлено отмеченным выше различием методов, – социалистического «революционного насилия», «большевистских темпов» и либерального постепенного распространения «ароматной заразы».
Поскольку либеральная политика базируется на идеологии, претендующей на выражение «общечеловеческих интересов» и «победу во всемирном масштабе», её реализация объективно создает угрозу тоталитаризма. Последний отнюдь не является спецификой «социалистических обществ». Ещё Х. Арендт показала, что истоки тоталитаризма – в отказе от традиции, разрушении традиционных общностей, приводящем к атомизации общества, «тотальному одиночеству» современного массового человека, «освобождаемого» либерализмом едва ли не от всех типов естественных социальных связей. То, что тоталитаризм – неслучайный феномен 20 века и связан не только с «социализмом», а потенциально присущ современному нетрадиционному обществу как таковому, отмечает и Э. Гидденс. Ссылаясь на еще одного авторитетного исследователя, З. Баумана, он пишет: «тоталитаризм и современность связаны не только случайно, но и внутренне, как, в частности, сделал очевидным Зигмунд Бауман»[421 - Гидденс, Э. Постмодерн/философия истории. М., 1994, С. 346.]. Известный российский автор А. М. Руткевич, характеризуя современную либеральную политику и ее вероятные перспективы также высказывается вполне определенно: «от идеалов Свободы, Равенства, Братства в западном обществе почти ничего не осталось – они превратились в лозунги партийных функционеров, демагогов, манипулирующих массами. Переход к тирании и рабству может произойти в любой момент»[422 - Руткевич, А. М. На развалинах священных стен / Магический кристалл. М., 1992. С. 305-306]. Мы, со своей стороны, заметим здесь, что «моментальный» переход к тоталитаризму все-таки вряд ли возможен. Да это и не нужно, это не в либеральном духе. «Моментальные (по историческим меркам) переходы», «кавалерийские атаки» – это как раз социалистические методы, направленные, главным образом, на прямое разрушение.
Либеральная политика придерживается, как отмечалось, тактики постепенного реформирования. В силу этого важнейшую роль в её проведении играют средства массовой информации. Именно они служат главным проводником – адекватным агентом постепенного распространения «всюду проникающей заразы» «либерального здравомыслия». Эта их роль обусловлена также тем объективным обстоятельством, что современноеобщество состоит из массы отдельных индивидов. СМИ же, как таковые, по определению как раз и культивируют эту современность, что делает их, в сущности, либеральными. Либерализм же, в свою очередь, не устает бороться за «свободу прессы». Действительные мотивы этой политической борьбы раскрываются Ж. Бодрийяром в известной работе с характерным названием: «Реквием по масс-медиа». «Телевидение, – пишет он, – куда больше чем всё это (традиционные средства контроля власти над индивидом – С.Г.): это уверенность в том, что люди больше не разговаривают между собой, что они окончательно изолированы»[423 - Бодрийяр, Ж. Реквием по масс-медиа/ Поэтика и политика. СПб., 1999. С.204.]. Это разобщение и «изоляция» людей, осуществляемая телевидением, сам факт его наличия, согласно Бодрийяру, важнее даже того, что, собственно, показывают на телеэкранах. Он специально обращает внимание на это принципиальное обстоятельство: «в самом предельном случае власть должна была бы предложить каждому гражданину телевизор, не заботясь о программах»[424 - Там же.]. И сегодня, с распространением Интернета, можно констатировать, что это фактически произошло.
Иными словами, сделан решающий шаг на пути современногочеловека к тотальному одиночеству. А этот путь, в силу самой логики социального бытия не может не привести к тоталитарной форме организации общественной жизни. Бодрийяр так говорит о тоталитарном характере «современных mass media», куда он включает также систему выборов, референдумы, разного рода «культурные мероприятия»: «они не перестают быть тоталитарными: в некотором роде они реализуют идеал того, что можно было бы назвать “децентрализованным тоталитаризмом”»[425 - Там же. С. 218.]. В этом бодрийяровском определении, как представляется, точно выражена сущность либеральной политики, её толькометодическое отличие от известной социалистической политики «централизованного» тоталитаризма. Так это или нет, – покажет время, и, возможно, достаточно скорое, но уже сегодня, вполне очевидно, что современная либеральная политика, по сути своей, имеет мало общего с подлинной свободой, и создает объективные предпосылки для возникновения невозможного прежде, глобальногототалитаризма.
§2. Либерализм и свобода
Больше всего раздражают те
исследования, которые вскрывают
родословную идей.
Лорд Эктон [426 - Слова, взятые Ф. Хайеком в качестве эпиграфа к работе «Дорога к рабству».]
В современном словоупотреблении, прежде всего, конечно, в общественно-политической лексике слова «либеральный» и «свободный», «свободолюбивый», – едва ли не синонимы. «Либеральное законодательство», «либеральные нормы», «либеральные меры», «либеральные взгляды», – все эти понятия, воспринимаются общественным сознанием, как правило, именно в таком ключе. Так, «либеральным» называется то законодательство, которое обеспечивает, защищает свободу, «расширяет» её. То же и с либеральными нормами не только в праве, но и в морали, религии. Либеральные меры – это такие, которые способствуют увеличению свободы в той или иной сфере общественной жизни. Либеральные взгляды, присущи, конечно, свободному и свободолюбивому человеку. О либерализации нечего и говорить. Для правоведов, политологов, экономистов, это понятие стало почти термином. Учёные-экономисты, например, много говорят о «либерализации экономики», то есть уменьшении налогового бремени, ослаблении контроля, снятии запретови ограничений и т.п. Весьма характерно также понятие «свободный рынок» – одно из ключевых для либерализма. Либерализация, собственно и означает, – расширение свободы, продвижение к ней, своего рода «свободизацию». Такая синонимичность, надо полагать, немало поспособствовала (и продолжает способствовать) торжеству либеральной идеологии, победному шествию либерализма в современном мире.
Трактовка либерализации как «движения к свободе» находит своё подтверждение и в различных словарях и энциклопедиях. От знаменитого труда В. И. Даля, до ещё более знаменитой сегодня «Википедии». Слово «либеральный», происходит от латинского «liberalis», что значит свободный, сообщается в них. Этот перевод, однако, как будет показано далее, не может служить достаточным основанием для узурпирующей «синонимизации» и дальнейшей идеологизации понятия «свобода», которые осуществляются либеральными писателями, начиная, по меньшей мере, со времён Дж. Локка.
И не только потому, что свобода, – одно из основополагающих понятий человеческого духа и требует, поэтому философской интерпретации, а не «перевода». Свободолюбивым адептам либеральной идеологии следовало бы опираться не на словари, а подумать над тем, какой смысл вкладывался изначально в понятие «liberalis», является аутентичным для него. Это, тем более важно, что и в «родном» для либерализма английском, и в других основных европейских языках, – русском, немецком, есть свои, родные слова для обозначения понятия «свобода». Продумывание этимологии этих слов, в контексте рассмотрения обоснованности самоаттестации либерализма в качестве проводника и защитника свободы, выявляет «на стыке» языкознания и политической теории проблемное поле, практически «непаханное» современной наукой.