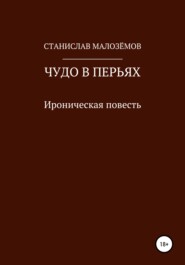По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я твой день в октябре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, Ляксей, ты ему не служи. Ты гражданский человек. Путёвый. Подчиняться не любишь. А генералу не подчиниться – это ж и до расстрела дойдёт. Живи как жил. И сам в генералы не мылься. Даже в полковники. Подневольные они люди. И страха в них много. У рядового на войне один страх был – что убьют насмерть. А у генералов – и то, что убьют, и то, что разжалуют до майора, и ещё страх не полюбиться начальникам. Вон сколько генералов расстреляли и до начала войны, и в войну, да и после. Это разве жизнь?
– Нет, Михалыч, не жизнь это, – Алексей спешил. – Ну, давай, побегу я. Что- то нехорошо мне вот тут.
– Сердце болит? – дядя Миша стал рыться в карманах.– Валидол Ольга вроде сюда бросила.
– Не, не надо. Сердце не болит. Что-то на душе нехорошо. Побегу я. С отцом жены вряд ли я тебя сведу. Шишка шибко большая. В люди не выходит. А с самой познакомлю. Потом. Она на восьмом месяце сейчас. Родит – приведу. Посидим, чайку попьём. Лады?
– Ну, с богом, Ляксей! – Михалыч пожал ему руку и Лёха рванул через весь город на полной скорости домой.
– Вовремя, – сказал отец. Он был бледный и пахло от него водкой. – Зайди к жене и поедем в Притобольский. Редактор машину дал дежурную. Мама сейчас тоже прибежит из школы. Я позвонил уже.
Надежда сидела в кресле лицом к окну. На животе её лежала книга фонетики английского языка. На крышке секретера – раскрытые тетради с конспектами.
Лёха молча поцеловал её в волосы.
– Целый день вот так сидишь?
– Нет. В институте была до двенадцати, – Надя потянулась. Сняла очки и протерла глаза. Тебе отец сказал уже?
– Что? – обошел её Лёха и сел на подоконник.
– Ты иди. Я не могу. Он сам скажет.
– Батя!– вылетел в зал Алексей. – Что?
Отец пошел на кухню, налил себе полстакана водки, выпил, занюхал сухарём из хлебницы, сел на стул и стал смотреть в небо, выше дома напротив.
– Володя умер. Брат, – он взялся обеими руками за пышную шевелюру свою, скомкал её и простонал как при зубной боли. – Сожрал его рак. А врачи обещали вытянуть. Пошли. Маму на улице встретим. Машина вон внизу стоит уже.
Володя умер. Средний из братьев. Второй по возрасту после бати из шестерых Панькиных детей. Самый весёлый. Самый добрый. Лучший ветеринар области. Певец. Спортсмен-волейболист. Гармонист. Отец двух забавных малышей. Был.
Это пришла третья после деда Паньки и бабушки Стюры смерть человека, родного по крови. И тоже страшная. Помер брат отца в мучениях, как и бабушка. Но самое ужасное было не в этом. Он не успел почти ничего сделать из того, о чем мечтал. Потому, что смерть решила, что последующую вечность после тридцати пяти земных лет он больше нужен будет там, в прекрасном и неизвестном никому, другом, потустороннем мире.
Кладбище в совхозе давно уж поставили в неудобном месте. На земле, которая только зимой пропускала и покойников и живых без ненужных уже мучений. Дорожка основная, глинистая, правым крылом была выше левого. Гроб по ней нести, после дождя особенно, представлялось почти невозможным делом. Подбегали снизу дополнительные мужички упирались одной рукой в гроб, а другой в тело каждого, на чьих плечах усопший добирался до последнего своего приюта. До такой же глинистой могилы, куда опускать на толстых верёвках гроб не очень просто было. У края могилы скользко и вязко. Были, говорят, случаи, когда и покойника роняли, да и сами провожающие его в последний путь сваливались в яму, ломая гробовую крышку из тонких досок. Ограды могил почему-то принято было ставить высокие. Делали их из металлического кругляка-катыша, обязательно заостряя верхние концы прутьев. Дорожки между оградками оставляли такие узкие, что к тем, кого похоронили лет десять назад, добраться было почти испытанием. Обдирались родственники об острые концы оград, падали в узких извилистых проходах между могилами, если были грязь или гололёд. Кладбище разрасталось стремительнее, чем совхоз и подкрадывалось уже к крайним поселковым домам. В другие стороны расширяться не имелось места. Впереди – река, с левого бока – озерцо, а по правую руку – бетонный забор автобазы. Те, которые когда-то давно выбрали это место, считали себя, наверное, большими оптимистами и надеялись на то, что граждане Притобольского помирать не настроены вообще и делать это будут, по-возможности, редко. Уж больно хорошо жил совхоз. И росло там всё, и коровы молока давали невпроворот, и мясные породы притобольцев баловали. Много с них брали мяса забойщики. В общем, место напоминало райское и издали, да и изнутри тоже. Но в жизни обыденной, ежедневной и многолетней, прояснилось геологами к печальной неожиданности всех там живущих, что стоит этот здоровенный пригородный посёлок на какой-то плите в недрах, которая состоит сплошь из радиоактивных элементов. Тут мечтали геологи всё толком разведать и предложить большому начальству открыть здесь карьер для добычи редкой и дорогущей руды. Но граждане поселковые так прочно приросли к райским радостям, что согнать их с места было нереально даже для Всевышнего. Тем более, что верить в него запрещалось коммунистической моралью и нравственностью. Вот и у Володи, брата отцовского, рак приключился от того, что жил он там пять лет, имея какой-то дефект всей пищеварительной системы. Вот горло первым и попало в когти канцеру. Болел он долго. Вроде и поправлялся на время, но рак отлавливал его вновь и продолжал доедать. За два последних года Володя похудел до неприличия и обрел землистый оттенок кожи.
– Трындец мне, – равнодушно сообщал он родне на всяких семейных гулянках во Владимировке. – Как врач говорю.
– Ты ж ветеринарный врач, – возражал ему муж сестры младшей, Василий.
– Вася, – тихо убеждал его выпивший Владимир. – Мне людей бы надо лечить, а не коров. Человек, Вася, намного большая скотина, чем скотина с рогами или пятаком вместо нормального носа. Ух, как бы я их лечил. Они б у меня и воровать перестали, и безобразничать. Я бы их долечил до уважительного отношения к себе подобным, зависть бы всем залечил нахрен, жадность и наглость беспросветную. Вот так. А я честных, порядочных коров и свиней с баранами лечу. Которые воспалением лёгких болеют, а не полным и гадким поражением совести.
Вот его и хоронили сегодня. Умер ночью. В морг городской, зарайский, решили не отвозить. Дядя Саша Горбачев, начальник местного УГРО позвал милиционера, вызвал скорую и кончину Володину документально зафиксировали.
– Сегодня земле предадим прах, – официально распорядился дядя Саша.
В три час дня гроб из дома вынесли, а в четыре уже столпились на окраине кладбища. Уважаемому человеку, хоть и не было его в природе уже, дали место в зоне для начальников и людей известных, достойных. Клан Маловичей-Горбачёвых, человек сто двадцать, если с детьми считать, и почти весь совхоз собрался вокруг могилы. Родственники не плакали. Точнее, плакали несколько человек со слабыми нервами или с большой, особой любовью к Володе. Жена его, Бабушка Фрося, мама, и несколько сердобольных женщин из бухгалтерии и ветклиники. Погода стояла хорошая. Прохладная, ноябрьская. Но без снега, дождя и ветра. Все, кому положено было или лично пожелалось скорбные речи произнести, произнесли. Оркестр духовой малым составом между выступлениями скорбящих траурный марш играл и было в этом прощании с дорогим всем человеком что-то мистическое. Собаки выли в деревне, вороны откуда-то взялись и расселись по соседним оградкам, а из глубины кладбищенской как привидение выплыла бабка лет семидесяти в коротком тулупе, валенках, с седой головой, слегка прикрытой тонкой серой шалью. Она пробилась к краю могилы, провела над ней тонкой своей рукой и сказала только три слова:
– Теперь ты дома.
Поклонилась, не крестясь, и попятилась назад, раздвигая тощим телом крупных мужиков и женщин с широкими деревенскими бёдрами. Вышла из толпы и исчезла. Куда пошла, никто не увидел. Бросили все по горсти земли и почти половину могилы засыпали. Много было людей. Потом холм накидали, лопатами прихлопали, придали форму, поставили временный памятник из толстой жести. Без креста. Без звезды сверху. Даже таблички не было. Краской чёрной написали- «Малович Владимир Сергеевич. 1935- 1970.»
– Здесь мраморный поставим. С портретом и гравировкой, – объявил директор совхоза. – И оградка будет из горизонтальных труб. Скамейка, столик и два дерева. Берёзу Владимир любил и сирень белую. А сейчас всех прошу на поминальный ужин в ресторан «Тобол». Первая партия – родные и близкие. Два часа на поминки. Потом – все, кто хочет проститься с душой усопшего. Которая ещё сорок дней будет здесь, с нами. А значит и в ресторане тоже. Скажите душе на поминках побольше, добрых слов не зажимайте. Пусть возрадуется душа его любви и памяти вашей.
Директор надел мохнатую кепку, прошел сквозь толпу, сел в «волгу» и уехал.
Народ тоже стал расходиться. Остались Маловичи и Горбачёвы. Они молча стояли вокруг могилы. Только жена Володина Алевтина тихо плакала.
Темнело уже. Ветер вечерний, низовой, студил ноги. И собаки в совхозе почему-то не перестали выть. А, может, они всегда вечерами выли. Просто в обычной жизни никто на это не обращал внимания.
– Прощай, брат. Мы расстаёмся ненадолго. Жди нас всех, – сказал Шурик, младший из братьев, опустился на одно колено и сложил ладони на холмик перед памятником.
После него все по очереди прошли мимо холма могильного, опускали на свежую землю ладони и неслышно что-то говорили. Стало темно и совсем прохладно. Все, кто был, аккуратно заложили всю могилу венками, увитыми цветами из разноцветной гофрированной бумаги.
– Сейчас все идем на ужин, – громко сказал Лёхин отец. И пошел первым. До совхоза было минут пятнадцать ходьбы. До ресторана – полчаса. Лёха взял маму под руку.
– Ничего, – грустно сказала мама. – Все говорят, что там лучше, чем здесь.
– Лёха не ответил. Нечего было сказать. За двадцать один год никого не видел, кто бы воскрес, обошел всех и рассказал, как прекрасна загробная жизнь.
Он промолчал. Хотелось быстрее домой. На душе было плохо. Не скорбно, не жалостливо, а просто плохо. Так бывает, когда ты сам чувствуешь какую-то неясную вину перед всем и всеми, но никто вины твоей не понимает, не обижается и не наказывает. И вот это, наверное, самое тяжелое чувство изо всех, какие тебе даны для жизни.
В поминках радости нет – ясное дело. Но удивительно, что и печали большой да горестной тоже не случается никогда почти. По крайней мере, на тех обедах с обязательной кутьёй и всюду пахнущим одинаково компотом из сухофруктов, на которых раз семь уже пришлось Алексею посидеть. Уже после первых прекрасных и громких воспоминаний о покойном, за каждым из которых следовал перерыв небольшой для выпивания полного стакана водки, за столами выявлялось расслабление и всякие разговоры. Кто-то продолжал выискивать в минувшей жизни мёртвого красящие его поступки, возможности и умения. Кто-то упирал беседы за столом в его доброту, порядочность и любовь к родным, к земле, к человечеству и ко всему остальному. Семь раз ел Лёха кутью на поминках и, хоть знал умерших, никогда бы не нашел в них, живых, столько замечательного, сколько все без исключения ораторы постоянно видели в делах его и помыслах. Пока он ещё жил. На прощальном ужине в память о Володе отклонений от стандарта не предвиделось. Стена торцовая приняла на себя тяжесть рамы с портретом Владимира Сергеевича, угол которого пересекала широкая чёрная лента. Большой был портрет. Когда, кто и где его так быстро успел сделать и воткнуть в раму с вензелями, Лёху так удивило, что он сразу же дернул отца за рукав.
– Батя, а что, у них дома такая огромная карточка разве была? Как же я её не видел никогда?
– Ну… – отец молча прошел ещё с десяток шагов и показал пальцем на три стула, куда они должны были сесть. – Ну, понимаешь… Все наши просто ждали, когда именно придется Вову хоронить. Но Хамраев, хирург, и Ливинская, врач, которая его наблюдала, сказали, что никакими средствами продлить ему жизнь больше невозможно. Всё сделали, что только можно было. Дали три месяца. Это, мол, край. И спросили у нас, сказать ему или нет. Мы с Шуркой решили, что сказать надо. Вова был, сам знаешь, духом крепкий. Слюней не пускал сроду. Болел-то три года. А он прожил не три месяца, а девять. В конце, правда, ни с кем, кроме своих, бабушки, меня да Шурки встречаться не хотел. А говорить – почти не говорил. Пальцем нажмет внизу горла – со свистом и хрипами слова наружу пробивались. Но уже понять было сложно… В общем…Фотографию я взял у жены его. Моргуль в редакции переснял её, отретушировал и на рулонной бумаге напечатал портрет метр на метр. Раму сделали на мебельной фабрике. Шурка заказал. Наклеили на картон и вставили в эту раму за три дня до… Эх, бляха…Ладно, садимся.
Сколько людей говорило про Володю хорошие слова, Лёха не считал. Чем больше напивался народ, тем длиннее и запутаннее были добрые о нём воспоминания. Потом, через час где-то, выступления сольные иссякли и родня близкая вместе с дальней повели уже разговоры в узких кругах. То есть, с теми, до кого можно было дотянуться стаканом.
– Нельзя чокаться на поминках! – строго крикнула бабушка Фрося. – Сдурели, что ли?
– А, ничего, – начальник уголовного розыска дядя Саша Горбачёв махнул рукой и поднял вверх указательный палец. – Володька всегда был против традиций и законов православных. Не веровал он. И мы не веруем. Да, Николай?
Пьяный батя тоже налил себе в стакан и подтвердил.
– Да, Саня, ты в точку прямо! Не веровал он, и мы не блюдём даже пост и пасху не отмечаем. Потому делаем, как Вовка любил – звонко чокаться!
И они вместе с ближайшими соседями вшестером звонко стукнулись стаканами.
– Ма, ты за батей погляди, а я покурю пойду на воздух, – Лёха поднялся, взял со стола конфету и, разворачивая на ходу фантик, пошел вдоль длинного стола, за которым уже о покойном не говорили, а болтали что попало и даже пытались петь украинские почему-то песни. Поднял Алексей взгляд от столов и установил его на дверь входную. И увидел, что навстречу ему, к отцу, видимо, идет Малович Александр Сергеевич, Шурик. Он выпил поменьше, судя по походке, и потому сразу же увидел Лёху. Остановился. Отвернулся в сторону шумящей о чем-то своём родни и простоял так пока Лёха не прошел мимо.
– Ни хрена себе! – поразился Алексей. – Во как зацепила дядю-то моего любовь наша с Надькой да и свадьба, конечно. Не позвали его! Остальные тоже, конечно, пыжились слегка, но хоть и нехотя, но с ним разговаривали.
На улице возле входа было так дымно, что единственная лампочка над дверью не могла протолкнуть все свои фотоны и люмены до земли. Свет от неё застревал где-то на уровне животов отчаянно курившего народа.
Зажег Лёха спичку, размял «Приму» и тоже выдохнул вверх синюю и длинную порцию табачного дыма.
– Чё, молодой Малович? – тронул его сзади за плечо дядя Костя из Владимировки, брат деда, похороненного четыре года назад. – Жалко тебе дядьку своего, Володимира? Али тебе за нас, упырей колхозных, теперь не положено жалость иметь и уважение? Небось, заругает папаша бабы твоей, что хоронить ходил брательника батиного? На чёрный хлеб да воду посадит вместо осетрины да ананасов. И в начальники тебя засунуть погодит. Ты ж теперь не простолюдин, как я, отец твой, Шурка, капитан милиции, да Гриня наш Гулько. Мы ж казаки уральские. Самые свирепые, злые, тупые и нам токмо кровь дай пустить а хоть кому! Чернь мы, быдляки, а ты, сука, теперь барин. Шапки, мля, нету при мне, а то бы заломил щас прямо перед личностью твоей дворянской.