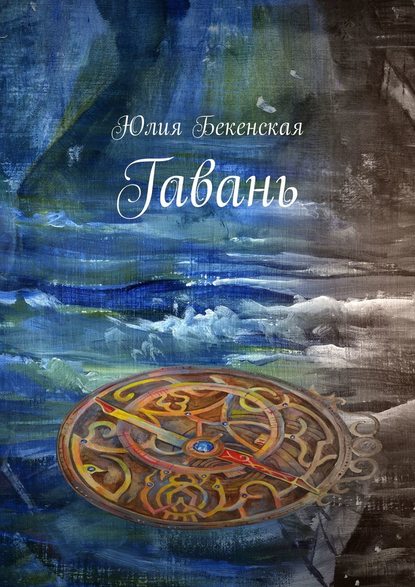По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гавань
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не сомлеть…
В глазах потемнело. Вздох – но воздуха нет, есть кисель, а рыба не может дышать в киселе.
А-ах!
Выдох.
Темнота навалилась мягко, Тая стала вдруг очень гибкой – и не упала, а мягко и плавно стекла: под парту, на пол, в обморок…
И наконец, стало покойно и хорошо.
…Два склоненных лица: озабоченное – классной дамы и сердитое – учителя, она увидела позже, когда открыла глаза.
– Вынужден вам возразить, – говорил историк, – полагаю, здоровья в избытке. Равно как и тяги к возмутительному лицедейству. Это желание заявить о себе, даже таким диким способом, я склонен отнести к проявлению притворства и лени.
И увидев, что Тая на него смотрит, повторил, чеканя каждое слово:
– Да-с, именно так. Притворства и лени!
***
Живет Тая на окраине. Дом у них старый. В дождь мокрая штукатурка плачет потеками. Узкий, торчащий, как гроб, поставленный стоймя, туалет во дворе. Бельишко сушится на веревках с утра. К вечеру снимут, чтоб не украли.
Прямо из стены растет куст розового шиповника, а в маленьком палисаднике – цветок разбитое сердце. Под кустом у Таи сокровища спрятаны. Бумажный голубь в коробке от леденцов, медальон с отломанной крышкой и синий камень, найденный в гавани. Камушек тот – особый. А коробку она после пасхальной службы нашла – кто-то из прихожан на скамье оставил.
Напротив дома – пустошь, а в глубине, где слышно, как море шумит – заброшенный барак красного кирпича. Черные окна, словно пасти, заманивают. Митя там волка видел!
Сам он куда-то запропастился. И вчера не было. А у его мамы не спросишь – она кричит погромче историка. У Митьки мама – прачка, большая и шумная, с красным пятном в половину лица – след от ожога паром. У Таи мамочка не такая – красивая и певунья. А папа умер, давно.
Зато у Митьки отец есть; он пьяница, пропадает в гаванских кабаках. Говорят, руки золотые были когда-то.
Сейчас ни души возле дома. Только кот на крыльце усы намывает.
Митька хитрый. Любит подкрадываться неслышно: идешь домой из гимназии, глядь – а он уже рядом шагает, будто всегда тут был. И сердце зайдется от сладкого ужаса: не увидит ли кто – гимназистку мальчик встречает!..
С Таей они с детства дружат. Митька привык верховодить, на выдумки больно горазд. Но теперь она – гимназистка. И пусть в гимназии тише воды, ниже травы, и глупые девочки дергали ее за косу, зато Мите она может рассказать все, о чем знает. И до лета осталось чуть-чуть, есть секрет под разбитым сердцем, а еще верный друг и огромный мир, о котором чистые гимназистки ни сном, ни духом. Поделом им! Пусть облопаются своим бламанже.
Свист. Треск ломаемых веток.
Хрусть!
Тая только отпрыгнуть успела – и вот он, пожалуйте, Митька, собственной тощей персоной. Стоит, ухмыляется. На щеках – черные полосы сажи.
– Ты откуда свалился?
– Известно, откуда! С неба! – когда Митька смеется, во рту дырка от верхнего зуба видна.
– Если бы с неба, разбился бы всмятку! И сажи на небе не водится!..
Хохочут.
Митька живет и горя не знает. До поздней осени ходит босой, бывает, где хочет, спит, где придется. Иногда в гавани помогает: то конец поймать, то сеть подлатать, а то проводить гуляку из кабака к Благовещенской. Когда монетку дадут, когда подзатыльник – как повезет.
Митька все про всех знает и ей рассказывает: в том домишке старуха живет, графская нянька – если окликнуть, в ответ непременно заругается по-французски. А в квартирантах у нее солдат корноухий. Он добрый – может леденцом угостить. А лицо все время в порезах – им положено бриться да форму носить до самой смерти…
Однажды Митька ей скупщика воровского показывал: с виду дядька как дядька, только глаза бегают. И про хулиганов он все знает. Если, говорит, синий шарф и фуражка на правое ухо – то гайдовцы, а если шарф красный и на левое ухо картуз, то рощинцы. У него знакомцев – полный квартал: нищие и разносчики, чистильщики сапог да воришки. Даже отставной регент-побирушка и тот с ним здоровается. Не жизнь, у Митьки, а сказка: ни тебе гимназии, ни тесных воротничков, ни зубрежки.
У Митьки свои новости, у Таи свои:
– Историк мне кол поставил. Кричал! Злой он теперь, белены объелся. К нему товарищ приезжал, офицер без мундира. Конфетами всех угощал, а я наказанная была, только в конце прибежала. Офицер красивый! С усами! Девочки говорят, хороши конфеты-то были! Чистый зефир. А еще он Данилу Андреевича-то спросил, мол, как поживает ваша знакомая дама сердца?.. Представляешь, оказывается, у историка дама была. Такой нескладный весь, его товарищ смешно называл: Цапель! и прыщики, прыщики же у него, а тут раз – и дама!
– А что, если прыщики, то даму нельзя? – обиделся за мужчин Митька.
– Ты дальше слушай! Девочки смотрят – историк весь побледнел, зашатался, за сердце схватился и говорит: мы расстались, и жизнь моя разбилась навеки! Что ты смеешься, Соня Бузыкина сама видела. Так и сказал: разбилась навеки! И с тех пор сам не свой. Колы ставит! Вот что любовь делает.
– Любовь у него, а кол – тебе, – рассуждает Митька. – Вот бы любови своей колы и ставил. Надо бы посмотреть, что за гусь Цапель-то ваш.
– Да кто же тебя в гимназию пустит? – смеется Тая. – У тебя башмаков нет. Мадам Вагнер как увидит тебя босиком – так от злости и рассыплется по косточкам…
– Ничего, – отвечает Митька, – я помозгую. Чтобы вашему Цапелю неповадно было колами разбрасываться…
– Ой, Мить, не надо! Хуже будет, – пищит Тая.
Но самой приятно, что друг за нее заступается.
– Ладно, – говорит Митька важно, – не боись.
– А еще Цирцелия Францевна сказала, что в гимназии вор завелся! Что у нее книжку украли. А Зойка Фомина все меня в бок толкала – как будто бы это я!
– Дура твоя Зойка! – отрезал Митя. – А что за книжку у Цыцы сперли?
– Да мне почем знать! Справочник какой-то…
– Справочник – полезная вещь, – отозвался Митька. – Помнишь, в субботу ночью в гавани кабак сгорел? Так вот там человека нашли. Мертвого!
– Врешь!
– Вот те крест. Побежали! Сегодня к причалам пойдем. И еще покажу одну вещь…
– Я на покойника смотреть не буду!
– Да увезли уже покойника-то. Не бойся. Другую вещь. Ходу!
И как понесется!
А Тая – за ним.
***