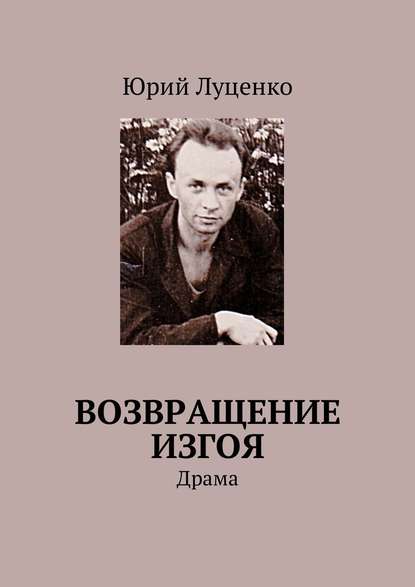По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение изгоя. Драма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Физически сразу уничтожить бы эту «вшивую команду» отработавшую свой трудовой ресурс, вот и решены были бы все проблемы – такое решение еще несколько лет тому назад было бы самым реальным, желанным для чекистов и исполнимым, но уже в послевоенные годы большевики не могли на это решиться.
Они просто предоставили возможность этим людям самим умирать.
А пока еще они были живы – их использовали на хозяйственных работах, которых всегда вокруг уйма: на очистке снега, разделке дров, уборке территории, да еще в похоронных командах. Объем труда никем не учитывался, а затраты на содержание актировались каждый день специальным документом.
Вот и получалось, что каждый день, вертелись «доходяги» на бестолковой суете по распоряжениям больших и малых начальников, а почитались все равно тунеядцами.
Кормили «актированных» скверно – почти так же, как больных в санчасти – лишь бы не передохли с голоду, по так называемому «гарантийному пайку» – как кормят в тюрьмах. Доведенные до отчаяния «доходяги» побирались в столовой, вылизывали миски, их можно было видеть у мусорных ящиков, они, укрываясь где-нибудь в укромном месте, разжигали костры, варили в банках из отходов что-то вонючее, условно-съедобное и поедали, обжигаясь со звериной жадностью. Многие из них для того чтобы заглушить чувство голода и заполнить пустоту в желудке пили воду… Много воды. Подтверждая своей неестественной полнотой лагерную сентенцию о том, что кубометр воды заменяет сто грамм сливочного масла…
Одевать «актированных» было невыгодно для хозяйства. И они донашивали то, что было у каждого «с доброго времени» или что собиралось в каптерке «недоизношенное» и недоворованное, приготовленное для списания в утиль.
Считалось тогда, что стать на ноги тому, кто оказался в бараке «актировки» было уже практически делом почти невозможным.
Имя по лагерной кодификации у них было «доходяги».
Здесь проходила граница раздела социальных групп лагеря. Эта граница от тех, кто мог еще трудиться, жил надеждой, не терял оптимизма, отделяла жестко и с презрением отбрасывала от себя ту группу людей, которой уже невозможно было помочь. Они потеряли здоровье, не могли уже «обрабатывать себя», становились изгоями даже в том каторжном обществе.
У «доходяг» даже психология резко отличалась от всех остальных обитателях лагеря. Они забывали свое прошлое, с иронией относились к тому, кем были раньше, чем жили до своего несчастья, опускались часто почти до крайней степени: умывались редко, в баню водили их строем нарядчики и санитары, когда приходило их время по графику. А они тогда прятались, разбегались. Беспокоились о них только потому, чтобы оттуда не возник очаг эпидемии.
Бараки, где обитала «актировка» почти не убирались, и, конечно же, насекомых было там столько, что не умещались в настилах нар и свободно расползались по полу. Окна, заложенные снаружи снегом для утепления, зияли грязными украшениями в промежутках между вагонками и казались грубой подделкой, помещение едва освещалось небольшими электрическими лампочками.
Никому конечно и в голову не приходило проветривать помещение – нужно было беречь тепло и воздух, состоял из застоявшихся частиц сырой прели, смешанной с испарениями немытых тел и мокрого тряпья.
– Глава 3 —
Я так подробно рассказываю о своих проблемах и обстановке в лагере, что и ощущения лучше воспринимаются изнутри, а я приглядывался к жизни этого слоя общества, потому, что в конце зимы уже совсем почувствовал, что не удержусь на уровне зольщика и покачусь дальше вниз с конечной остановкой в этой «вшивой команде».
А еще потому рассказываю, что вскоре, всего через несколько месяцев в числе десятка вновь прибывших в нашу зону пополнил ряды этой команды и Федор Федорович.
Я был тогда молод, и как мне ни было тогда тяжело, все же у меня еще сил и энергии было больше, чем у него, после «лечения» в больничном городке с зачислением его в группу временной инвалидности.
Я тогда выжил, увернулся еще и в тот раз от попадания в ту воронку и по наитию, случайно, не целясь, угодил в «десятку»:
В один из редких выходных дней, когда от нечего делать я перебирал свой вещевой мешок, выкладывая на нары его содержимое, и развернул свой «золотой запас».
А там были рулончик ватманской бумаги со связочкой карандашей – истинное сокровище для лагеря, унесенное со склада на прежнем месте работы.
И посетили меня вдруг забытые ощущения…
Захотелось неожиданно вдруг размять свои огрубевшие пальцы и порадовать себя, отупевшего, отравленного газами, несколькими минутами забытого приобщения к Красоте.
Как обычно при прикосновении к хорошей бумаге мне с огромной благодарностью вспомнился дед Фоменко – случайный учитель, питерский художник, мотавший тогда второй свой срок в одном лагпункте и даже в одном бараке со мной.
Он, с трудом разгибая негнущийся позвоночник, собирал молодых ребят вокруг себя, усаживал посреди барака какого-нибудь натурщика – любителя покрасоваться своей персоной и обучал нас азам портретного рисунка.
За такой работой тогда забывалось все.
Днем же, когда мы были на работе, старый художник около окошка создавал на бумаге, величиной с открытку, свои шедевры.
Это были миниатюры великого мастера.
Мы же, потом, через вольнонаемных, постоянно получающих материалы с базы, отсылали рисунки в Ленинград дочери художника.
Может быть, они и сохранились где-нибудь эти открытки?
Времени для общения с Учителем нам отпущено было немного, но кое-чему я все же у него научился.
Главное, пожалуй, из прочего – уважению и трепетному отношению к тому, что создал сам.
Я разыскал в тумбочке своего бригадира фотографию его жены, нашел в бараке наиболее освещенное место, приколол к крышке фанерного чемодана листок ватмана и принялся за работу. И за любимой работой забылось вдруг все, что окружало меня тогда: и мрачное настроение, и пурга за стенами барака, и холод, и голод, и вся бесперспективность самого существования на этом свете…
Мне нравилось лицо молодой женщины на снимке, работал я с увлечением, мечтая в то же время попутно и о том, что работа моя сулила и дополнительный кусок хлеба.
В бараке было пусто и тихо. Хотя далеко не тепло…
За стенами барака зло бесновалась непогода.
А я, временами разогревая под телогрейкой леденеющие пальцы, творил портрет незнакомой красавицы. И мне уже казалась она живой и черты лица ее удивительно кого-то напоминали, и это согревало меня откуда-то изнутри…
Потом в барак зашел пожарник с широким прорезиновым ремнем, подтверждавшим его полномочия.
Потопал у дверей, сбивая снег с валенок, подошел со спины и поздоровался почти шепотом, чтобы не мешать.
Это был мой «земляк» по зоне кирпичного завода Яша Юнгман – и искренний при этом приятель.
Он тактично пощелкал языком, полюбовавшись портретом, и удалился на цыпочках, стараясь ступать как можно тише.
Я заработал тогда свою пайку хлеба за работу, а еще – благодарность бригадира, что стоило тогда для меня очень много.
А еще и внеочередной отгул…
Поступили первые заказы на исполнение портретов с натуры. Для своих родственников – сфотографироваться ведь было негде!
А чуть попозже, когда основная масса рабочих смены отправилась в столовую обедать, и барак опять погрузился в мрачную тишину, вдруг появился начальник пожарной дружины лагеря Конрад Шмидт в сопровождении того же пожарника Яши.
Доложил-таки «земляк» по инстанции!
– Ну-ка, покажи! – Потребовал начальник тоном, к которому привык у себя в команде.
Портрет уже висел на стенке, прибитый гвоздиками над постелью бригадира.
– А я и не знал раньше, что ты художник!
– А что бы было, если бы знал?
– Быть бы тебе уже пожарником! Ну да это еще не поздно! Вместо дежурств будешь портреты рисовать! Я уж добьюсь своего! Завтра приходи в наш барак после девяти – будет здесь наш капитан – он не сможет нам отказать. Зачислит в команду, никуда он не денется! А может и грек чем-нибудь поможет. Портрет с собой прихвати!
– Да неловко, Коля! Я же уже его продал. За пайку. И, кроме того, мне же завтра на смену выходить!