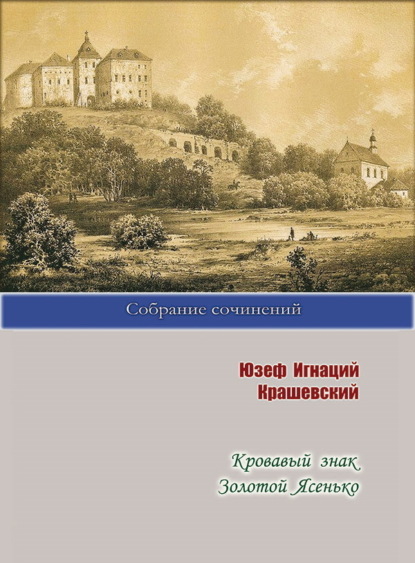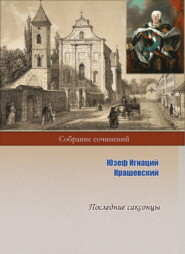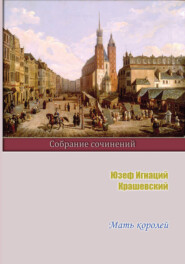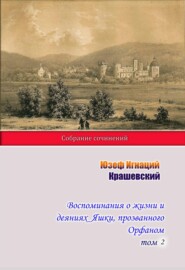По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кровавый знак. Золотой Ясенько
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ребёнок, в одно мгновение обняв отца, потом поцелав ему ноги, побежал к матери, чтобы получить ею долю ласки; с любопытством заглянул во все углы, куда только мог, взобрался к окну, пронюхал старые отцовкие книги и уже хотел было вырваться на свободу, чтобы своему священнику показать весь замок… рассказать, что когда-то слушали тут от слуг… побегать.
И однако же этому ветренику, такому своенравному, несмотря на свою детскую физиономию, было больше шестнадцати лет, но ласки делали его ещё в некоторых отношениях таким рассеянным юнцом.
Ведомая предчувствием матери, желая одновременно освободить сына из этого заключения, а отца сблизить с учителем, пани Бригита кивнула ему, чтобы вышел с ней, и вывела его за собой в соседние комнаты.
Евгений видел их каждый год, но всегда этот дивный замок привлекал его тысячью вещей. И в этот раз он выбежал, приветствуя сначала череп в рыцарском шлеме с дерзостью смельчака, который уже даже смерти не боиться, а потом преследуя молчаливую мать многочисленными вопросами.
– А это та бабушка… девушка с красной полосой на шее, истории которой никто рассказать не мог, или не хотел… но я должен её узнать, – болтал он живо. – Мне уже есть шестнадцать, я не ребёнок, я мужчина. Я должен знать историю дома. А это тот старый, огромный, страшный прадед, которого называли мечником, хотя им не был…
Мать ничего не отвечала; он по-прежнему бегал, здоровался, заглядывал.
– Это удивительно, – говорил он, – столько лет всегда тут всё на своём месте. В комнате отца… в этих залах… ничто не дрогнет, ничто не прибавляется, ничего не стареет. Те же люди… кажется, что вчера отсюда выехал.
– Слушай, Евгений, – усевшись в круглой зале и притягивая его к себе, произнесла Спыткова, – ты должен меня понять. Я вывела тебя специально, чтобы поведать тебе одну вещь… чтобы тебя предостеречь.
– Предостеречь? Хорошо, – ответил мальчик, – я послушный, когда только могу.
– Видишь, как тут всё немо, молчаливо, важно около отца, который какую-то старую печаль носит на сердце. Ты молод, тебе нужны веселье и шум, но они могут быть неприятны отцу. Воздержись, не смейся. Будь более внимательным, с уважением и умеренностью.
– Мама, – сказал Евгений, – это хорошо; но когда у меня на душе весело оттого, что вижу вас, что сюда прибыл, как тут скрыть?
– Быть весёлым, но не показывать этого.
– Матушка, это всё равно будет родом лжи.
– Правда, дитя моё, – грустно отвечала Спыткова, – зачем мне тебя ей учить? Тебя заранее научит этому жизнь. А стало быть…
Мать замолчала и поцеловала его в лоб.
– Будь, каким тебя создал Бог, как тебе сердце укажет, и будь, что будет.
– А что же может быть, матушка? – спросил мальчик.
– Ничего, ничего, отец – человек старый, уставший, грустный; он может принять тебя за очень ветреного и беспокоиться…
– Почему отец грустный? Разве не помнит, что был молодым и весёлым? – спросил Евгений.
– Уже достаточно, не задавай мне вопросов, дитя моё. Благослови тебя Бог, пусть…
Тут в её глазах появились слёзы, но смех ребёнка бросил в неё какой-то луч радости, и она также улыбнулась.
– Ты не спросил о своём коне, – воскликнула она.
– А! Правда, мой конь, мой араб! Мама, прикажи привести араба! Обниму Тамара за шею! Узнает ли он меня также? Заржёт ли мне?
Он хлопнул в ладоши и побежал к звонку на столике, а через мгновение прибежали слуги; он послал в конюшню, чтобы Тамар пришёл похвалиться собой молодому пану.
Когда здесь так кончился разговор, в покое пана Спытка аббат де Бюри, желая как можно удачней похвалиться успехами воспитанника, согласно его мнению, каждой чертой, каждым словом поражал отца, краснел, не смел ещё прекословить, но всё больше убеждался, что воспитание сына бло поколеблено, что человек, которому его доверил, непосвящённый, полный веры в себя, вёл его колеёй века, которому принадлежал, и страны, ребёнком которой был. Уже было не время бороться, отступать, гневаться, нужно было чашу горечи, самой тяжёлой в мире, выпить до дна, не зажмурив глаз, даже не застонав.
Бледный пан Спытек, заломив руки, молча слушал журчащий рассказ, а на его лице запечетлелась такая страшная боль, что вошедшая после получасового отсутствия жена испугалась при виде его, не смея, однако дать узнать по себе, что это видела… потому что ей нельзя было спрашивать. Она сидела молча.
Только Евгений побежал к отцу, хваля араба, которого обнимал и на которого уже желал сесть.
По кивку Спытка, который, очевидно, очень страдал, пани Бригита вывела аббата де Бюри и сына. Когда дверь закрылась, старик схватился за кресло, ноги под ним дрожали, он схватился за пылающее лицо, а потому потащился к коврику для молитв и упал на колени.
– Да будет воля Твоя, Господи! – воскликнул он. – Вижу погибель семьи в этом ребёнке. Я хотел его сделать усердным работником в Твоём винограднике, кающимся за грехи отцов, чтобы Ты сжалился над нашей кровью, – не смог! Всё в моих руках перевоплотилось, уменьшилось, как я, обеднело. Неизбежное предназначение, приговор Твой, Господи, неумолимо исполнится. Слёзы и молитвы не спасут семью от погибели, на неё нацелен перст Твой. Да будет воля Твоя… рассыпется в прах ничтожно. Я боролся до конца, желая изменить нашу судьбу, остановить смерть; но я слаб… и вот падаю, Господи, со стоном; возьми меня, чтобы я не смотрел на крах и не глядел на конец своими глазами.
Старик не скоро пришёл в себя, а когда остыл наконец и хотел выйти к жене и сыну, почувствовал такую слабость, что, напрягая все силы, едва смог выйти из комнаты. Медленным шагом он прошёл, как бы прощаясь с ними, по пустым замковым залам, останавливаясь напротив портретов и в духе разговаривая с ними.
Так достаточно грустно прошёл этот первый день пребывания Евгения в родительском доме, хотя Спытку мог бы кое-чем утешиться, если бы по-человечески умел принимать утешение. Поскольку после обеда аббат де Бюри принёс целую распакованную стопку упражнений, рисунков, учебных тетрадей молодого ветреника, который делал большие успехи. На первый взгляд ребёнок, он умел и знал больше, чем обычно ребята в его возрасте; но эти знания даже поразили отца, потому что в них на каждом шагу чувствовался нетерпеливый ум, который переходил за границы настоящего, желая разрушать и преобразовывать.
Когда все разошлись спать, а учитель грустно размышлял о скуке, какую будет чувствовать в Польше из-за отсутствия подходящего общества, когда должен был сесть и писать свои впечатления для приятелей, оставшихся во Франции, для аббата Рейналя и шевалье де Бомарше, в коридоре послышалось какое-то необычное для этого времени движение. Аббат де Бюри не стал будить спящего воспитанника и вышел спросить, что случилось; однако он бы с трудом мог поговорить, если бы случаем не проскользнула в эти минуты бледная, как мрамор, сонная пани Бригида. Она шла, уставив в темноту глаза… с лампой в руке… Священник заботливым вопросом её задержал.
– Молитесь, – отвечала она ему, – пан и муж мой опасно заболел.
– Что же случилось?
– Ничего… захворал…
Была уже ночь, когда слуга, присматривающий за Спытеком, поднял бессознательного пана с коврика для молитв, на котором молился, и побежал объявить пани. Старик лежал в кровати с сильной горячкой. Немедленно послали в ближайший городок за врачом, а лошадей расставили до Люблина, чтобы утром мог прибыть другой врач, итальянец, который приобрёл в окрестностях огромную славу. Спыткова, только на минуту отойдя от ложа, вернулась, занимая своё место подле него, молчаливая, но испуганная этим ударом молнии. Спытек был без сознания, разговаривал как бы с невидимыми фигурами, окружающими его ложе; то плакал, то молчал, или молился. Потом, точно минутка сна его подкрепила, пробуждался, узнавая жену, приходя в сознание, говоря холодно и рассудительно; но эти ясные моменты продолжались недолго, а после них сразу ум облачался как бы туманом и они снова возвращали умирающего в кровать… лихорадочные галлюцинации, слёзы и молитвы…
На стуле подле старца, не роняя слёз, сидела мраморно-спокойная Спыткова; она слушала и смотрела на исполнение неизбежного приговора. Трудно было отгадать, что делалось в её сердце, каким чувством билось оно к этому человеку, который был её мужем, с которым делила жизнь, казалось, не разделяет ни понятий, ни боли, ни лихорадочных предсказаний будущего. Порой даже могло казаться, что пани Бригита, попавшая в эту семью, не имела к ней ни большой привязанности, ни даже сочувствия к её участи. Как жертва, предназначенная для страданий, она терпела их без стона, без жалобы, но не показывая также по себе, что сердце её принимало участие в этих игрищах судьбы.
Среди ночи уже прибыл сначала врач из местечка, но, кроме горячки, наличие которой он признал, ничего не в состоянии понять, прописал только лёгкие средства от неё; причины болезни были для него тайной. Между тем ночь прошла без перемены; ближе к утру наступил сон и принёс небольшое облегчение. Доктор-итальянец подошёл около полудня, когда снова начала усиливаться горячка и постепенно росла до вечера, что объявляло развитие болезни, но определить её характер ещё было невозможно.
В доме царила мрачная тишина; даже Евгений с книжкой в руках, спокойный и грустный, сидел в зале, а сердце его чуть ли не первый раз в жизни почуяло опасение и беспокойство.
Иногда бледная мать выходила подышать в залу, целовала ребёнка в лоб, шептала несколько слов ксендзу… и возвращалась к кровати.
Ждали перелома, который должен был наступить завтра или позже, может. Но в этот день горячка неслыханно усилилась, светлые минуты исчезли, больной был полностью без сознания. Итальянец совсем того не скрывал, что имел чрезвычайно маленько надежды на спасение пана Спытка.
Ход этой внезапной слабости был подобен всем горячкам этого рода. Кризис не принёс облегчения, а скорее убеждал, что у больного сил для новой жизни уже нет.
В последующие дни он только догорал… все иллюзии нужно было потерять. К счастью, к нему возвращалось сознание, но в такие минуты его мучило столько мыслей, столько обязанностей хотел выполнить, что усилие ускорило истощение.
Выполнив торжественные обязанности христианства, согласно старому обычаю, в присутствии всего двора, потому что минута последнего помазания всегда связывалась у нас с прощанием с семьёй, слугами и всеми земными друзьями, Спытек, точно немного успокоившись, уснул.
Когда он проснулся, была уже поздняя ночь. Открыв глаза, он увидел неподвижную, как статую, жену, которая с начала болезни, почти без еды, не оставляла несчастного ни на минуту. Сидела, глядя на него, без слёз, без видимого волнения, но не покидая своего места. В другом покое молился капеллан, в дальних сидели Евгений с аббатом де Бюри, потому что он выпросил себе разрешение бдить. Ещё дальше старые слуги, смотрители, отслужившие грациолисты, чуть ли не весь двор молился и плакал.
С первой минуты, когда заболел Спытек, замковую часовню открыли, выставили Святое Таинство и постоянно в ней читались молитвы за больного.
Среди тишины и темноты этот освящённый костёльчик, казалось, уже готовился к погребению. Среди людей было предчувствие смерти, тысячи зловещих признаков… нечто, что говорило, что Спытек из этой болезни не встанет.
Проснувшись, он обратил глаза на Бригиту и тихим голосом её позвал.
– Прощай, – сказал он, – пусть Бог вознаградит твои жертвы. Только он и я их видели. Там они будут тебе засчитаны. Последняя моя воля и распоряжение… в бумагах. Если не найдёте, зачем пустая воля человека там, где всем распоряжается Божья? Будет, что должно быть. Напрасно бы я поручал, заклинал и хотел нарушить предназначение, будь что будет, – повторил он. – Пусть сын придёт… Чувствую, что не доживу до утра.
Жена пошла и привела Евгения, который в течение этих дней болезни отца стал очень серьёзным и грустным; на его личике видны были следы слёз и усталости.