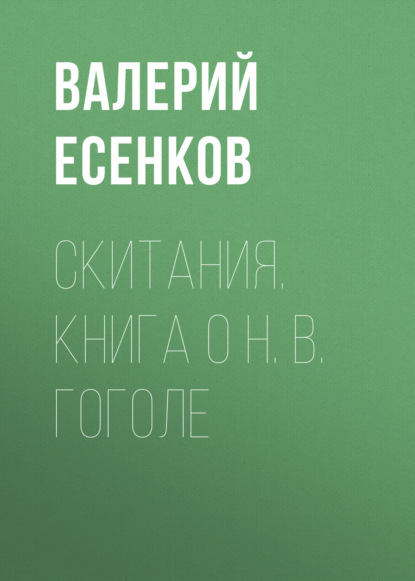По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ужасное нетерпение захватило его, едва осознал он коренные болезни нашего века. Для них, для этих ко всему на свете равнодушных людей готовил он свои «Мертвые души». Тогда, если только найдется у него достаточно умственных и нравственных сил так исполнить свой труд, как бы желал и как бы следовало ему, тогда только уяснятся у многих глаза, которым никаким иным путем нельзя сказать этих истин, суровых и горьких, о назначении человека и о деле души, тогда только даст он многим понять, что есть человек и какие таятся в нем бездны уродства и точно такие же бездны добра, о которых он может даже не знать. Только после второй части он сможет заговорить серьезно о многом таком, о чем до той поры вынужден был угрюмо молчать.
Однако его здоровье всё ещё оставалось до крайности слабым, и как дорога ни помогала ему, как ни просветлялась долгой дорогой душа, отчищаясь от скверны обыденного, его физические силы прибывали по крошечным крохам, и никто не мог знать, когда он примется всерьез за перо и главы второй части возведет как главы собора.
Глава десятая
Возлюбите меня!
Как же молчать! Где набраться силы молчать? Как справедливость мысли своей без промедления не проверить на опыте?
И вот Николай Васильевич вновь принялся будоражить близких знакомых, однако уже никому не предлагал такой соблазнительный подвиг самоотвержения, который не соблазнял никого, увидевши очевидно, что никакой подвиг самоотвержения и не может никого соблазнить, пока человек не отворотится решительно от себя самого и не обратит свои очи на ближнего. Нет, он на этот раз предлагал всего только оборотиться кругом да повнимательней поглядеть на людей, с которыми толчешься всякий день в одной толчее, впопыхах не примечая ни лиц, ни характеров, ни того, что каждый из них человек.
И вновь он предлагал обсмотреться и поглядеть во имя любви. За неимением иной любви у его соотечественников, он решился использовать любовь к нему самому, в которой так часто ему изъяснялись в самых тесных петербургских и московских кругах.
Как ни странно критика «Мертвых душ» на такое решенье подвигла его. Во всех этих криках и склоках, поднявшихся вокруг первого тома поэмы, резко и явственно обозначилось в особенности одно: все глядели на автора, все судили, рядили и бранили только его. Стало быть, интерес к автору был, интерес к тому же слишком большой, до каких-то болезненных и почти непристойных размеров.
Что ж, и слабости человеческие могут нам послужить на доброе дело. Отчего не попробовать? Отчего не рискнуть?
И он жаловался, что позасиделся по заграницам, по целительным водам и чужим городам, что поотстал и поотвык от Руси, что слишком многое сделалось для него неизвестным, и просил о дружеской помощи в его бесконечном труде, страстно надеясь на то, что, из любви к нему помогая работе над «Мёртвыми душами», оглянется кругом себя человек и узрит наконец, что он на земле не один.
И он во все стороны направлял свои наставления, Александре Осиповне прежде всего, полагаясь на отзывчивость женской души:
«Наконец от вас письмо из Калуги (от 12 декабря)! Как долго я ждал его! как соскучил без ваших писем! как мне теперь нужны ваши письма! как нужно теперь для вас самих писать ко мне чаще, чем когда-либо прежде, ради вас самих! Я вам говорю это не напрасно. После вы узнаете, как я прав. Христа ради, не забывайте этого и пишите. Я глотал жадно ваши известия калужские, хотя в них только один легкий очерк вашей жизни. Но на первый раз быть так: вам было много хлопот и не до того. Друг мой Александра Осиповна, будьте же отныне обстоятельны и дайте себе слово отвечать на всякий запрос моего письма. Вы уже сделали визиты, как сказываете сами, всем служащим, некоторым помещикам и почетным купеческим женам. Напишите же мне, что такое служащие ваши, что такое помещики и что такое купеческие жены. Сначала их дух вообще, как целого сословия, а потом, какие есть между ними исключения. Узнавайте их понемногу, не спешите ещё выводить о них заключения, но сообщайте всё по мере того, как узнаете, мне. Не бросайте многих людей и характеров, как уже узнанных и вам известных, но продолжайте присматривать за ними и наблюдать: в душе и в сердце человеческом столько есть неуловимых оттенков и излучин, что всякий день могут случиться открытья и открытья. У вас есть порок, свойственный почти всем женщинам: вы поспешны и быстры и хотели бы иное вдруг сделать. Этот порок, однако же, лучше мужского порока, известного под именем байбачества. От этого порока вы избавитесь уже тем, если дадите себе слово – всякое дело, какое ни захотите сделать, изложить прежде мне в письме, а потом его сделать. Чувствуя, что излагаете его мне, вы уже несколько увидите его обстоятельнее и лучше и, не имея от меня ответа, уже узнаете сами мой ответ. Друг мой Александра Осиповна, не пренебрегайте всеми этими просьбами: просит об этом вас больной и подчас сильно страждущий друг. Вы никогда не любите смотреть в письма мои перед тем, как пишете, и почти никогда не отвечаете на нужные, иногда слишком нужные и слишком душевные запросы. Друг мой, не поступайте со мной так! Держите хотя одно это письмо перед собой в то время, когда пишете. Но возвращаюсь вновь к моим просьбам и продолжаю их: определите мне характеры всех находящихся в Калуге, не пропускайте мелочей и подробностей, вы знаете, что я до них охотник и что по ним мне удавалось узнать многое, многое в человеке, вовсе не мелочное, которое иногда он не только не открывает другим, но и сам не знает. Уведомляйте меня также о всех толках, какие ни занимают город, о всех распоряжениях, какие ни делаются в губерниях, и о всех злоупотреблениях, какие ни открываются. Не пропускайте также упоминать о всех мерах, какие предпринимаются противу голода, как раздаются хлеба, то есть какими порядками, образами и средствами. Не пропускайте также извещать меня от времени до времени о крестьянах, находящихся в вашей губернии, как помещичьих, так и казенных, обо всех у них и с ними переменах и вообще обо всем, что ни касается их участи. Не пропускайте также уведомлять меня обо всех важнейших делах, какие предстоят в Калуге Николаю Михайловичу (которому при сем передайте мой радушный и дружеский поклон), обо всем, что удалось ему уже сделать, равно как и о множестве всякого рода затруднений, какие предстоят повсюду. За всё это я отблагодарю вас потом не словом, но делом. Я буду вам потом в великой пригоде. Друг мой, дайте мне силы сделать что-нибудь похожее на доброе дело. У меня так мало истинно добрых дел, а жизнь наша так быстро летит, я же к тому и недомогаю, чем далее, тем более. Вы знаете, что я люблю Россию, что всё, что ни есть в ней, мне дорого, что любовь моя растет, несмотря на бренные мои физические силы. Друг мой, исполните мою просьбу! Что вам сказать о самом себе? Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается, чем далее, более, а что хуже, вместе с нею необыкновенная леность всяких желудочных и вообще телесных отправлений. Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится трудней и труднее, потому что начинают пухнуть ноги или, лучше, жилы на ногах. От этого едва выбирается из всего дня один час, который бы можно было отдать занятиям. Но при всем том Бог милостив: я не унываю. Думаю о многом том, о чем мне следует думать, и мысли мои, несмотря на телесный недуг, нечувствительно зреют…»
И он обращался к молодому Самарину, именно рассчитывая много на любознательность и отзывчивость молодости:
«Благодарю вас весьма много за ваше письмо. Я его читал с большим любопытством. Ответ на него будет потом… А до того времени мой совет (хотя я не знаю, любите ли вы советы и притом ещё такие, которые нужно принять на веру, при которых не представляют причин, вследствие которых они сделаны, ниже разумных логических выводов, на которых они основаны), мой совет заняться вам в продолжение двух-трех месяцев каким-нибудь делом черствым, положительным и совершенно существенным, которое ближе всего к вам в буквальном смысле, хотя и не ближе к душе или к сердцу. Займитесь вот чем: очертите мне круг и занятия вашей нынешней должности, которою вы теперь заняты, потом круг занятий всего того отделения или департамента, которого часть составляет ваша должность, потом круг занятий и весь объем обязанностей того круга или министерства или иного главного управления, которого часть составляет означенное отделение или департамент по числу восходящих инстанций. Всё это в самом сжатом существе самого дела и притом в том именно виде, как вы сами разумеете, а не так, как кто-либо другой. Потом объясните мне, в чем именно состоит неповоротливость и неуклюжесть всего механизма и отчего она происходит, и какие от этого бывают плоды в нынешнее время как вокруг и вблизи, так и подальше от центра. Само собой разумеется, что по поводу этого вам предстоит премножество знакомств с чиновниками вашего ведомства, от которых в этом случае никак нельзя вам ускользнуть, потому что, не знавши лично самих двигателей и даже их собственного существа, вам будет открыта только дна половина. Словом, вот какого рода дело! Весьма неприятное, но вам его нужно сделать. Чтобы вам лучше подвигнуть себя на это, вы поступите вот как. Прежде всего вообразите себе, что вы меня любите и что подвиг этот делаете совершенно для меня, а не для себя, и что я будто бы при этом плохо уверен в вашей способности на самопожертвование и что это-то именно мне нужно доказать, а я вас вперед уже за это обнимаю и говорю: не будете в том раскаиваться…»
И Анне Михайловне подыскал он подходящее дело, которое заставило бы её хотя бы на шаг отодвинуться подальше от исключительно личных своих интересов:
«Вы всегда жаловались, что вам нет поприща, мало дела и не знаете, чем быть полезну другим. Это настоящая тайна хандры вашей, хотя этого покамест вы ещё не раскусили. Вам нужно дело. И вот вам дело: всё выслушайте внимательно и всё исполните усердно, что ни скажу, помолившись прежде покрепче Богу, во имя которого вы должны предпринять это дело. В Петербурге и в Москве будет играться «Ревизор» в новом виде, с присовокупленьем его окончания или заключенья, в бенефис двух первых наших комических актеров. Ко дню представления будет отпечатана пиеса отдельною книгою с присоединением доселе никому не известного её окончания. Продаваться она будет в пользу бедных и может распродаться в большом количестве, стало быть, принести значительную сумму. Выручка денег поручена Плетневу, который передаст их, по мере прихода, тем, которые должны взять на себя обязанность быть раздавателями этих денег бедным, в числе которых одно из главных лиц – вы, а потому и пишу я обо всем этом вам. Прилагаю при этом и предисловие, которое должно быть приложено в начале книги. Из него вы увидите, в чем дело и как нужно производить денежную раздачу. Соберите к себе всех тех, которых имена здесь означены, и переговорите с ними, взявши с них слово до времени не говорить об этом ни с кем из посторонних, кроме разве тех, которые, по замечанью кого-нибудь из них или вашему, могут быть включены в число раздавателей, которых чем больше, тем лучше. Старайтесь особенно склонить из женского пола таких, которых вы знаете как сострадательных, рассудительных и умных женщин. Я поставил здесь вашу приятельницу Дашкову единственно потому, что у ней есть особенная светлость душевная, постоянно разлитая в чертах её лица, в которой может она оказывать ту помощь страждущим, о какой ещё и сама она не знает. Трудностью не смущайтесь! Благословясь во имя Бога, принимайтесь за дело и помните только, что в этом деле поможет вам Бог более, чем во всяком другом, и вразумит так, как вы покамест и помыслить ещё не можете. Для большого облегчения себе всяк может вначале первые дела и первые подвиги возложить совершенно на священников и требовать только от них подробных рассказов, каким образом и как они произвели это дело. От этого нечувствительно потом научитесь помогать сами. Потому что помогать есть тоже наука и вдруг выучиться ей нельзя, особенно если станешь избегать всяких случаев оказывать помощь. Всё это сделайте как можно скорее, потому что имена и адреса следует выставить сейчас же в конце предисловия. Предисловие вы перепишите в числе двух экземпляров и отдайте немедленно Плетневу для припечатанья в книгу. Он должен успеть их отдать цензору и один из них отправить в Москву для напечатания тоже там при тамошнем издании, которое имеет выйти в одно и то же время с петербургским. Я не думаю, чтобы кто-нибудь из любящих меня отказался от обязанности быть раздавателем вспомоществования. Он будет не передо мною виноват, но перед Христом, и если станет оправдываться какими-нибудь светскими приличиями, то да вспомнит, чтобы не было когда-нибудь ему сказано от Бога то, что будет сказано многим Его устыдившимся: «Устыжусь я и того, кто Меня устыдился». Кому же невозможно решительно по неимению времени, то пусть скажет напрямик, чтобы можно было тотчас же имя его вычеркнуть, а на место его поставить другое. Переговорите с Аркадием Россети и Самариным, не знают ли кого-нибудь ещё из мужчин дельных, умеющих говорить и обращаться с людьми, которого можно употребить в это дело. Хорошо, если б ещё хотя двух мужчин и хотя двух женщин. Муханова нет, он за границей. Но имя его пусть будет выставлено, хотя и без адреса, он будет потом, по приезде, очень полезен. Что вы думаете о князе Барятинском? У него душа очень добрая, и он во многом значительно переменился. Я с ним сошелся ближе в Греффенберге. Мне кажется, что ему не достает для полного себя укомлектованья близкого знакомства с половиной страждущею людей и практического познания их положений под условием прижимающих и гнетущих их обстоятельств. Постарайтесь поговорить с ним об этом предмете. Он если не может покуда сам непосредственно действовать, то может вспомоществовать посредством вас или кого-нибудь из других, а тем временем может приглядеться сам к делу. Итак, Бог вас благословит! С Богом за дело! Позабудьте о себе вовсе. Никто из вас не должен принадлежать себе…»
Вот какие письма, какие просьбы он рассылал, превозмогая недомогания. Однако всё это ещё были самые малые капли добра, не способные напитать его страдавшую душу. Он всё твердил себе непрестанно, что всё это ужасно как далеко от того дела души, которого он домогался. Много ли тех, кого он может поднять на добро своими просьбами и порученьями, даже если его адресаты откликнутся из любви к нему и возьмутся за истинно доброе дело? Десять, двадцать, сто человек? А что же вся-то необозримая Русь со всем её непомерным байбачеством и удивительным умением ходить во всю жизнь по воде, на которой не остается следов?
Глава одиннадцатая
Переписка с друзьями
Эту необозримую Русь могли всколыхнуть одни только «Мёртвые души», и он, не долечившись как следует, постоянно превозмогая себя, едва оставивши Рим и пустившись в дорогу почти что без цели, принялся готовить себя к этому главному, к этому большому труду.
Второй том, как теперь открывалось после сожжения, должен был тесней прежнего вылепляться из первого. Это стало для него очевидно.
Взявши, за неимением своего, печатный экземпляр у Жуковского, он придирчиво перечитал главу за главой и пришел в замешательство.
Своё собственное творение он увидел другими глазами, точно со стороны. Вторая половина, с возвращения предпринимателя в город, представилась обработанной менее, хуже, даже небрежней, чем первая, и недостаточно выступил – самый дух всего сочинения. Многое хотя выкроено было недурно, сшилось кое-как белыми нитками, подобно платью, которое подается проворным портным для примерки. Лирические отступления были так неясны, вязались так несносно мало с предметами, проходящими чередой перед глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что этих лирических отступлений начинал он серьёзно стыдиться. Некоторые части представлялись чудовищно длинны в отношении к остальным и поставленным рядом. Временами он постыдно изменял сам себе, не выдерживая своего же собственного, уже однажды принятого тона повествования. Повсюду зияли великие пропуски. Главнейшие, важнейшие обстоятельства были скомканы, стиснуты, сжаты, сокращены, зато чрезмерно распространены побочные и неважные. Главная же беда была в том, что не столько выступал внутренний дух всего сочинения, сколько металась в глаза пестрота частей и даже лоскутность его. И самый город не был представлен во всей его пустоте, в этом беспрестанном хождении по воде, которая не оставляет следов, вместо того, чтобы твердо ходить по земле и щедро сыпать в неё семена добрых дел, орошая кормилицу потом своих неустанных трудов.
Всё предстояло переменить, и он, сожалея, жестоко укоряя себя, что поспешил выдать в свет сочинение, ещё не доведенное до высочайших, до высших высот, которые только и воздействуют прямо на душу читателя, принялся готовиться ко второму изданию, делая то и дело заметки, порой вдруг и нечаянно уясняя себе самому, каким образом поестественней – провести живую связь между предполагаемым вторым томом и уже известным читателю первым. Брошенные тут и там необдуманно, наспех намеки предстояло развить в слитный образ пустоты и безделья, а дух сплетен, дух тупейших поверхностных соображений ума, дух слухов глупейших, дух односторонних неосторожнейших заключений о предметах таинственных превратить в целый вихрь, поглубже наполнить, попрочней уплотнить содержание. Может быть, даже, следуя чуткому замечанию в одном месте Степана, дать всем понять, уже здесь, как в самом деле сложно, перепутано решительно всё в этих людях, впавших, для себя самих неприметно, в уродство?
И вот на отдельном листке он набрасывал размышление автора, до какой же степени человек современный, уже нынче по многим статьям похожий на Чичикова, как похожи две капли воды, озабоченный одной иссушающей страстью приобретенья, до чего этот современный человек замкнулся в себе:
«Он даже и не задал себе запроса, зачем эти люди попали ему на глаза, как вообще мы никогда не спрашиваем себя, зачем нас окружили такие-то обстоятельства, а не другие, зачем вокруг нас стали такие-то люди, а не другие, тогда как ни малейшее событие в жизни не произошло даром, и всё вокруг в наше наученье и вразумление. Но слова, что свет есть живая книга, повторяются нами уж как-то особенно бестолково и глупо, так что невольно хочешь сказать даже дурака тому, кто это произносит. Он даже и не задумался над тем, отчего это так, что Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошлел, сделался приторным своею добротою, а плут Собакевич, уж вовсе не благородный по духу и чувствам, однако ж не разорил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздношатайками. И отчего коллежская регистраторша Коробочка, не читавшая и книг никаких, кроме часослова, да и то ещё с грехом пополам, не выучась никаким изящным искусствам, кроме разве гадания на картах, умела, однако ж, наполнить рублевиками сундучки и коробочки и сделать это так, что порядок, какой он там себе ни был, на деревне все-таки уцелел: души в ломбард не заложены, а церковь на селе хоть и не очень богатая была, однако же, поддержана, и правились и заутрени и обедни исправно, – тогда как иные, живущие по столицам, даже и генералы по чину, и образованные и начитанные, и тонкого вкуса и примерно человеколюбивые, беспрестанно заводящие всякие филантропические заведения, требуют, однако ж, от своих управителей всё денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай, – и все крестьяне заложены в ломбард и перезаложены, и во все магазины до единого и всем ростовщикам до последнего в городе должны. Отчего это так, над этим Чичиков не задумался, так же, как и многие жители просвещенных городов, которые обыкновенно любят в этом случае повторять известное изречение: «Трудно даже и поверить, какие у нас живут оригиналы во многих губерниях и уездах…» Все помещики вылетели из головы Чичикова, даже и сам Ноздрев. Он позабыл то, что наступил ему тот роковой возраст жизни, когда всё становится ленивей в человеке, когда нужно его будить, будить, чтоб не заснул навеки. Он не чувствовал того, что ещё не так страшно для молодого ретивый пыл юности, гибкость не успевшей застыть и окрепнуть природы, бурлят и не дают застыть чувствам, – как начинающему стареть, которого нечувствительно обхватывают совсем почти незаметно пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, всего опутают и облекут человека, что и не останется в нем его самого, а куча только одних принадлежащих свету условий и привычек. А как попробуешь добраться до души, её уж и нет. Окременевший кусок и весь уже превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого если и выпорхнет иногда что похожее на чувство, то это похоже на последнее усилие утопающего человека…"
Боже мой, какая впереди ещё неоглядная бездна труда! И вся она принадлежит ещё безраздельно первому тому! А когда же второй, хотя и сильно поуяснившийся после сожжения, однако не начатый ещё даже первой, непременно звучной строкой? Сколько месяцев, лет позаймет, то есть истребит и поглотит, этот вперед призывающий труд? Пять или шесть? А может быть, десять? Он же по-прежнему слаб и духом и телом и с каждым днем, с каждым часом близится к смерти. Успеет ли он? Не останется ли нераскрытой тайной для всех его задушевное дело, если упадет он в могильную яму на середине пути?
Тогда и пришла к нему в полном объеме одна вполне странная мысль – выдать в свет свою переписку с друзьями. Именно с друзьями. Это надо понять. То есть с самыми близкими ему на земле, что позволило бы выдержать в книге тон задушевный, простой, которым бы смягчился и скрасился дух поучений, и в этой неожиданной книге прямо сказать, от себя, в чем именно обнаружилось для него душевное дело сперва нынешнего, а затем и следующих за ним поколений русских людей.
Много, страшно много он ждал от неё. Всё неудержимей хотелось ему ещё поглубже заглянуть в себя самого, чем он заглядывал прежде, а когда же по-настоящему и заглянешь в себя, как не в письмах к ближайшим друзьям? Всё нетерпеливей хотелось ему испытать те моральные истины, которые должны были, по его убеждению, оторвать заглохших людей от самих только себя и обратить их взоры на ближнего, и где же произнести эти истины в полную грудь, как не в тех же письмах к тем же ближайшим друзьям? И надобно было проверить свое возмужание, свою готовность приняться за труд, в особенности проверить свое вдруг застывшее, вдруг захромавшее слово. И необходимо было ещё раз попытаться узнать положение русского человека, хотя бы по тем гримасам его, с какими встретят личную переписку, чего не было ещё никогда до него. Может быть, он увидел бы истинный лик всей необъятной Руси?
С вниманием, с благодарностью вгляделся бы он в этот искренний, в возмущении, в негодовании приоткрывшийся и по этой причине истинный лик. Он беспристрастно взвесил бы всякое слово, направленное против него, по достоинству оценил бы всякий упрек. Он неторопливо обдумал бы всякую похвалу, какую-нибудь, хоть и малую, пользу отыскав даже в ней.
Для своего грандиозного замысла он ещё не довольно знал всю несчастную Русь, необъятную даже в мыслях о ней, даже в мечтах, всё ещё не исхоженную, не изъезженную им по всем направлениям, по всем глухоманям и уголкам.
Он бы должен был, махнувши рукой на здоровье, на воды, на полезнейшие разболевшимся нервам морские купанья, воротиться туда, забраться в обыкновенную бричку, в каких ездят холостяки, запряженную парой ямщицких коней, и пуститься проселочными дорогами, сквозь грязь непролазную или непроглядные облака из-под колес и копыт вылетающей пыли, в самую глушь, к самому корню её, к её извечному роднику, который жизнь дает ей и всем нам.
Он бы и воротился, если бы не слишком смутно, если бы не слишком тревожно завелось у него на душе, если бы это случилось по силам. Но как воротиться с пустыми руками, когда сам же наобещал через два года привезти второй том, а уже четыре года протянулось бесплодно и от всей рукописи не сожженной осталась одна заключительная глава, да и та заключительная глава почти что случайно не полетела в тот прожорливый немецкий камин? Какими глазами глядеть невольно обманутым людям в глаза? Где набраться силы души, чтобы выдержать заслуженные упреки и нареканья близких друзей? Как простить им неведенье творческих мук? Как убедить, что не литературное только, а душевное дело выступает прежде всего?
Забившись в угол дорожной кареты, прогуливаясь по тесным улочкам маленьких чистеньких городков, он заглядывал в себя пристально, без пристрастия, без снисхождения, и находил каждый раз, что ещё не научился прощать даже тем, кого всем сердцем любил, что не воспитал ещё в той мере себя, чтобы между самыми близкими из людей спокойно, безболезненно жить и свободным взглядом, очищенным от обид и страстей, видеть всё, что лежало вокруг.
Ужасно: он любил тех, с которыми не сходился ни в чем, с такой силой любил, что они уже не могли оставить его, если бы даже он захотел, чтобы они ушли от него.
Не душевное, а житейское и литературное дело было у них на уме, не доброе дело и подвиг самоотвержения, а богатство и чин служили им истинной мерой всего, что ни есть. О душе человека слишком многие давно позабыли, а если и вспоминали, за ужином, между двумя переменами, то лишь на словах, в бесконечных своих препирательствах по терпеливым московским гостиным. Спроси любого из них: что есть достоинство человека? Многого бы в ответ наговорили они с горячностью в голосе, с жестами рук, а загляни в них поглубже, и не увидеть нельзя, что достоинство человека в душе их давно заместил миллион.
Он же презрел всё житейское. Ему не нужно было ни чина, ни денег, ни доходного дома, ни деревеньки, ни кола и двора. Несметные сокровища прозревал он в душе каждого человека и на то отдавал свою жизнь, чтобы на свет Божий выгрести эти сокровища из-под наваленных куч житейского сора, из-под брони эгоизма, из-под потоков запальчивых слов о пользе добра, чтобы обратить эти сокровища на доброе дело и подвиг самоотвержения. И лишь в добром деле, в подвиге самоотвержения, в благородстве помыслов и поступков видел он истинное достоинство человека, а его величие находил лишь в извечной способности ходить по земле и всюду творить, созидать что-нибудь, оставляя свой пусть скромный, но след.
И всё, что ни совершали они в своем ослеплении, представлялось ему безусловно бессмысленным, даже болезненно-ложным.
И всё, что ни делалось им, в согласии со своим идеалом, что ни писалось в прямое осуждение им, они именовали уродливым, ненормальным, смешным.
Не было дня, чтобы он не попал в невыносимое, в несносное положение, живя среди них.
Они снисходительно принимали его добровольную бедность, не уставая дивиться, как это он, непрестанно нуждаясь в первейших вещах, откладывал деньги на помощь талантливым, однако же неимущим студентам, чтобы молодые люди непременно окончили курс и талантом своим хорошо послужили Руси, как он сам еще не служил. Они именовали гордыней и чванством его манеру и при своих ничтожных чинах держаться с полным достоинством перед любым человеком, пусть даже перед ним возникал губернатор и генерал, никогда и нигде не роняя себя. Им чудилось лицемерие в упорном его нежелании добиваться хоть какого-нибудь, однако же доходного, прочного места, а в литературе искать лишь успеха и славы, чтобы за это побольше денег иметь. Его простодушная искренность им представлялась самым изощренным лукавством. Самые естественные поступки его вызывали у них раздраженье. Его и в таких не понимали вещах, которые представлялись ему вполне очевидными. С ним не соглашались и спорили даже в самых пустых пустяках.
Как ни оскорбляло, как ни унижало его такое непониманье, доходившее порой до открытой вражды, это было в порядке вещей, потому он и взялся всех растолкать и подвигнуть вперед, на подвиг самоотвержения, к добрым делам, так что непонимание и вражду он бы смог как-нибудь пережить, однако непонимание и вражда рвали на части его и без того нестойкие, слабые нервы, разрушали тем самым здоровье, крали бесценное время, которое вернуть никому из нас не дано.
Понимая всё это, он готов был метаться, кричать. Он страшился утратить власть над собой и натворить каких-нибудь в самом деле постыдных поступков, лишь бы оградить себя от бессмысленных и грубых попреков, от смешных поучений, которые обращали они не на худшее, а на лучшее в нем, которые по этой причине то и дело до глубины души уязвляли и с толку сбивали его, не позволяя в истинном свете увидеть, что он есть и кто он такой.
От всех этих болезненных вздоров бежал он в римское одиночество и в этом неприютном, нелегком своем одиночестве упрямо карабкался на ту каменистую вершину познания себя самого и всего, что вокруг, когда понимаешь всего человека, в его внешнем уродстве и в глубочайшей его чистоте и, понимая, искренне прощаешь ему, во имя скрытой в нем чистоты, даже самые туманные, темные из его заблуждений, ибо неуязвимым посреди пошлости жизни делает нас лишь одна благая способность прощать.
Эту благую способность прощать он всё ещё не воспитал в себе в той именно мере, какой бы хотелось и нужно было достичь. По этой причине возвращение представлялось ему преждевременным, даже опасным: он страшился каким-нибудь боком втянуться в обыкновенные литературные и житейские дрязги и окончательно погибнуть для назначенного свыше труда своего. Поэма и без того слишком медленно, мелким, путаным шагом подвигалась вперед.
Однако сколько же можно было скитаться по наезженным европейским дорогам, обделанным в тесаный камень, закованным в прочный кирпич? Уже четыре года не был он дома, ему необходимы были свежие впечатления, новое познание себя самого и людей, новые силы, чтобы как можно скорей приняться за прервавшийся, иссушающий труд.
Может быть, оттого, что он мешкал и никак не мог привести себя в состояние, чтобы умело и сильно сказать это всесильное слово «вперед!», его соотечественники, он в этом не сомневался нисколько, всё ещё знать не знали и знать не могли, что беспрестанно и верно губят себя этой судорожной гонкой за призраком, которым сами же ослепили себя, все сплошь нечувствительно превращаясь в скотину Павла Ивановича.
Это важное слово наконец должно было пройти по второму тому поэмы, однако в том и беда, что второй том всё ещё был далеко-далеко.
Это важное слово можно было попробовать выразить в переписке с друзьями, и по тому, как оно примется всеми, как отзовется в зачерствелых сердцах, может быть, куда получше узналась бы великая Русь, чем если бы он проехался по ней в простой бричке, в каких ездят холостяки, и живыми глазами её рассмотрел.
Соблазнительная возможность, если бы мучительное сомнение не терзало его: как заставить излиться, как заставить хулить и хвалить не по одному оскорбленному чувству читателя, который непременно прозревает изображенным в самом непривлекательном виде соседа или не прозревает совсем ничего, кроме курьезов и глупейших забав?