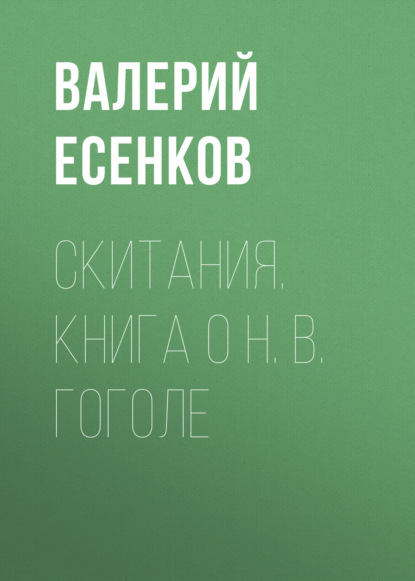По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да и как было не вливаться в душу тоске? Едва положил он на бумагу первые строки, открывавшие вторую часть «Мертвых душ», как тут же и ощутил, что неизмеримо потяжелей на плечи ноша взвалилась и что с каждым словом становилось трудней и трудней. Он много, много пообещал. Подумать-то даже легко ли. И много всему дорожному экипажу пути. И каковы свойства страсти, влекущей по жизненной дороге избранного им подлеца. И в чем тайна того, почему сей образ предстал в явившейся ныне поэме, И доселе не бранные струны. И несметное богатство русского духа. И чудная девица, какой не сыскать нигде в мире. И доблестный муж. И, главное, главное, тайна всей русской жизни, тайна предназначения этой необыкновенно чудной Руси. И ясный ответ на свой же тревожный запрос, куда же несется она в своем неизъяснимом движении?
И уже доходило до него стороной, что дома все с нетерпением и даже с болезненной страстью какой-то, до пререканий и ссор, ожидают от него продолжения. Именно ожидают не менее, как разгадки всех этих тайн и ответа на все эти запросы, а ещё также и разрешения его собственной участи: скоро ли, доживем ли, что будет содержать второй том, совладает ли автор с этой необыкновенной обширностью замысла, вывернется ли невредимым изо всех обещаний, себя не опозорит ли сам, не оправдает ли приговор, что талант его ниже, чем самый талант презренного Поля де Кока?
Он не предвидел ни этого нетерпеливого ожидания, ни этих злоязычных, даже злорадных запросов, а ещё имел смелость необдуманно обещать на всеобщее обозренье раскрыть тайную тайну великой Руси, первый том закончивши страстным запросом, обращенным ко всем:
– Русь, куда ж несешься ты, дай ответ?..
И горьким признанием, словно предвидел, что ни одна живая душа не поможет ему:
– Не дает ответа…
Однако очень надеялся он, он верил со страхом и страстью, что этот нетерпеливо желанный ответ непременно найдется в дебрях упорных трудов над другими частями, в сумятице бессонных ночей, и эта самая тайная тайна бедной Руси, тайна неизбежно великого, неизбежно славного предназначения до озноба любимой отчизны непременно раскроется перед ним, и сами читатели, едва закрывши первую часть, своими советами, своими прозреньями много, много помогут ему, оттого с такой неоправданной жадностью и читал пустейшие журнальные критики.
Недоверие, недоумение, прямое непонимание не обескураживали, не сбивали его. Так и должно было быть по первому, предварительному прочтению первого тома, в котором даже не начиналось, а лишь приготовлялось понимание перед всеми очами наконец обозначенной тайны, но все-таки брошен был хоть и слабейший, но вполне определенный, ясный намек.
И что же? Как ни на есть ничего. Ничьей души не коснулся этот прозрачный намек. Ни один ум не смутился, забравши в обязанность раскрыть эту тайну бедной великой Руси, без чего нельзя же русскому человеку и жить. Ни один звук не приблизил его к разгадыванию этой величайшей и могучей загадки.
Может быть, оно так и должно было быть: ведь тайна – она тайна и есть. И потому сама ненависть многих и многих к нему должна была натурально существовать среди самых далеких от понимания важности тайны и должна была необходимо остаться в продолжение, может быть, очень долгого времени, не меньше двух лет, как он себе положил. Оставаться предостережением, указанием, магическим знаком ему.
И потому даже открытая ненависть не наносила ни ран, ни какого иного урона душе, так верил он, что непонимание сменится же наконец пониманием и что самая лютая ненависть обернется когда-нибудь чувством светлой и свежей любви. Пусть оно пока так, однако отныне решительно все, то есть он и вся Русь, были накрепко связаны одним общим действием познавания своей собственной сущности, своей общей тайны, действием оживления и восхождения из ада греховного эгоизма каждой омертвелой на время души.
Связаны ненарушимо. Это он ощущал. Однако по-прежнему в познавании тайны он оставался абсолютно один. Ему открывать, а у него как на грех всё заглохло, всё точно застыло в душе. Он пустился в дорогу, из вечного города Рима переселившись к Жуковскому в Дюссельдорф, в надежде позаимствоваться размеренным и спокойным упрямством в труде. Да оказалось и тут, что сам Жуковский тоже сильно хандрил и на время поотстал от труда.
Оставалось одно: не быть бабой и хомяком и с твердостью следовать правилу, которое говорит, что чего не поищешь, того не найдешь. Другими словами, оставалось брать в руки перо и писать. И тогда он, взявши с Жуковского слово, что к лету услышит по-русски новые песни великого старца Гомера, давши, в свою очередь, твердое слово, что тогда же Жуковский услышит новые главы поэмы, помолившись усердно, чтобы заронилась первая искра жажды труда, отправился на зиму в Ниццу.
В Ницце, решительно сказавши себе: «Вперед! И никак не терять присутствия духа! Веселей и отважней за дело!», в самом деле он безотлагательно взял в руку перо, как усталый гребец берет тяжелые весла в мозольные, сбитые до крови ладони, да и принялся грести против волн, то есть против себя самого, против томящего беспокойства и находившего беспрестанно бездействия.
В прежней жизни ему грести против волн приходилось не раз, и он, кое-как пересилив себя, понемногу выгребал на чистое место, где подхватывало его вдохновение. Выгребал понемногу и в Ницце. Выгребал и позднее, перебравшись во Франкфурт, где поселился Жуковский со старцем Гомером под мышкой, но из последних уж сил: как на грех, приходилось набрасывать ещё самый первый хаос творенья, из которого только позднее, после великого множества поправок и вычисток, после новых трудов и новых хлопот должно было выстроиться готовое стройное здание.
Таким был этот труд, а все-таки помаленьку, шажок за шажком приоткрывались такие жгучие тайны, каких дотоле не слыхивала настроенная на тайны душа. И потому приневоливание довольно вознаграждало его, так что первозданный хаос почти бессвязных первых набросков подходил постепенно к концу. Ему представало уже впереди, как отложит он этот первый хаос на время, как отдохнет, освежится новой дорогой, окинет всё написанное строго придирчивым взглядом и примется лепить и ковать и выстраивать хаос в образцовый порядок строго обдуманных глав.
Но с каждым днем становилось всё трудней грести против волн. И всё чаще приключались большие остановки в пути. И усталость ломила его. И должных материалов действительной жизни не оказывалось вдруг у него под рукой. И в познаниях вдруг обнажались большие прорехи, особенно в знаньях его о Руси, что представлялось нестерпимей и гаже всего. И в душе его открывался вдруг такой непорядок, от которого само собой выпадало из стиснутых пальцев сухое перо.
И всё чаще корил он себя, что пропустил понапрасну лучшее время своей несобранной, необдуманной юности и так мало, слишком уж мало сделал в то благое искрометное время прочных запасов на горькую, трудами обильную старость, когда самое время в доброе дело свои запасы пускать.
Под тяжестью этих укоров приходилось трудиться вдвойне и втройне, то и дело оставляя единственно по догадке едва внятный намек и потом возвращаясь назад. Пока он выгребал против волн, ему некогда и невозможно было читать, даже для развлечения, не то что какую-то дельную вещь.
Но лишь окончательно замедлялось перо, лишь обрушивалась слишком высокая волна беспокойства и невозможности следовать дальше, потребность свежего чтения становилась слишком сильна, и он беспрестанно, буквально запоем читал, спеша посильнее воспользоваться этим невольным перерывом в труде и захватить из дельных книг побольше всего, что оказывалось позарез необходимо ему.
Он читал хозяйственную статистику Российской империи, материалы для статистики Российской империи в историческом, статистическом и географическом отношениях. Читал сочинение Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича», чтобы во всех подробностях видеть истинное положение всех наших хозяйственных и бесхозяйственных дел.
С ещё большим напряженным вниманием он читал книги духовного содержания, в особенности жития многих подвижников церкви, стремясь всё больше и больше укреплять свою веру, что может, может же всенепременно, лишь получше задумайся о себе, духовно восстать человек и, восставши из тьмы эгоизма, подвиги духа свершить, подвиги не слыханного ни в какой стороне самоотвержения, подвиги ни в каком народе не слыханной красоты, ибо не из воздуха должен был соткаться во второй части доблестный муж, а из земных, пусть и не многих, примеров.
В особенности же вчитывался он в жития многих подвижников церкви затем, чтобы проникнуть в эту жгучую тайну русского духа, казалось, способного замирать без следа и вдруг взлетать в кружащую голову высь.
Но всё это были все-таки книги, хоть и повествовавшие о действительно бывшем, а он жаждал слышать самую плоть и самую кровь действительной жизни. По этой причине в душе его крепла охота знакомиться со всяким свежим, даже вовсе не знакомым ему человеком, если этот человек выехал только что из пределов России. В нем развилось и утончилось уменье выспрашивать, пользуясь тем, что русские люди, попав за рубеж, знакомятся ужасно легко и что на водах в Германии и на зимовьях в Италии такие люди сходятся между собой, которые, может быть, никогда в своей земле не столкнулись бы и остались бы в ней незнакомыми, и бывало, что в один час разговора он узнавал то, чего не мог бы, в России безысходно живя, узнать в продолжение недели и месяца, и вся она вновь в его мыслях сцеплялась в единое целое.
Казалось бы, дело сделано, поскорее берись за перо и трудись в поте лица своего, как заповедал Христос. Он и брался. Он простаивал возле конторки по шесть и по восемь часов. И ничего. Всё выходило до пакости вяло из-под притупленного пера, лишний раз напоминая давно открытое правило, что творение жизненно движется только тогда, когда созидается и движется жизненно душа самого никогда не дремлющего творца.
И он с новой пристальностью вглядывался в себя и с новым усердием и с новым пристрастием бился за свое не достигнутое ещё совершенство, всё более и более становясь иным человеком в сравнении с тем, каким был от рождения и по домашнему воспитанию своему, так что многие и очень близкие люди не всегда узнавали его, впрочем, относя видимую им перемену к числу его вечных чудачеств и странностей, не прозревая его тяжкий труд над собой.
Круг его дружеских связей стеснился, ограничился самыми близкими из немногих приятелей. Он отыскивал повсюду таких, кто воспитывал бы себя неустанно или по крайней мере стремился бы сделаться лучше. С прочими знакомцами он почти не видался, и светские дамы, проживавшие в Риме, изнывавшие от скуки безделья, через общих знакомых нередко пеняли ему, что он их совсем позабыл, тогда как он отступился от них, найдя, что они безнадежны, то есть безнадежны в том смысле, что им никогда не расслышать зовущего слова «вперед!».
Что воспитывал он в себе во всю жизнь? Самое естественное, самое нормальное из человеческих чувств: безграничную, бесконечную, беспредельней самой вечности беспредельную любовь к человеку.
Эта задача казалась легка, пока не заглянул он попристальней в самые корни действительной жизни. Любить ближнего, то есть любить человека? Но что есть человек на земле? Человек – это не пороки, не грехи, не паденья его. Человек – это вечное и бесконечное стремление к совершенству, к очищению себя от пороков, грехов и падений. Это вечное и бесконечное боренье с соблазном. Всего прежде с соблазном богатства и чина, которые не больше, чем ветер в траве: как пришли, так и уйдут. Вот они – два наших самых ужасных врага, которые неизменно и неустанно убивают в нас человека. Это вечная и бесконечная неистребимая жажда быть выше другого, а не лучше того, что ты есть.
Да много ли находилось таких, кто воспитывал себя самого и делался лучше? Уж что толковать о дамах высокого света и надменных московских старухах. Нечего о них толковать, когда и русский хороший образованный человек обнаруживался вполне довольным собой и не испытывал ни малейшего желания сделаться лучше, полагая, должно быть, что и без того уж слишком хорош. Что уж о них толковать, когда любое из самых благих начинаний этих хороших образованных русских людей непременно оканчивалось ничем, если прямо не гадостью, не раздором и не корытами грязи, которые в слепом раздражении обильно изливались одним на другого.
Как взбодрился, как вспыхнул он, как загорелся при одной вести о том, что «Москвитянин» переходит в руки Ивана Киреевского! Он и в письмах писал и Жуковскому говорил, от волнения несколько скованно и уж слишком пространно:
– Движение по части «Москвитянина» меня радует. Да, весьма и весьма. Однако ж сотрудников-то следует подзадоривать. На дело их надобно, так сказать, подпекать. Это всё народ русский, вот что возьмите на заметку себе. Рвануться на труд – наше дело, отчасти даже святое. А там как раз и съедешь на пшик. Из литераторов у нас ещё водится такое старье, что только молодых людей в уныние приводить мастера, а не имеется ума на дельную работу, на труд подстрекнуть. Как до сей поры так мало позаботиться об узнавании природы человека, тогда как это и есть главнейшее начало всему! У нас и профессора заняты только собственным своим краснобайством, а чтобы образовать человека, так вовсе не помышляют об этом. Многие даже не знают, кому они говорят, а потому и немудрено, что не приняли до сей поры языка, которым следует говорить и беседовать с человеком. Не умея ни поучить, ни наставить, они, рассердившись, умеют только кого-нибудь выбранить, а после этого сами же жалуются на то, что их слова не принимаются молодыми людьми, что у молодых людей не соответствующее потребностям – времени направление, позабывши о том, что ежели скверен приход, так в этом сам поп виноват. Как в последние пять или шесть университетских выпусков не образовалось почти ни одного дельно-работящего таланта! И «Москвитянин», издаваясь уже четыре, кажется, года не вывел ни одной сияющей звезды на словесный наш небосклон! Высунули носы какие-то допотопные старцы, поворотились, напустили чего-то и скрылись, тогда как с русским ли человеком не наделать добра на поприще всяком? Да русского человека только стоит попрекнуть хорошенько, повеличав его бабой и хомяком, загнуть ему знакомую поговорку да после сказать, что вот, де, говорит немец, что русский человек ни на что уже не годен, как из него в один миг сделается совершенно другой человек. Авось Иван-то Васильевич заставит многих порасписаться. Чего доброго, и Москва захочет, может быть, доказать, что она тоже не баба.
Он тотчас подзадорил Жуковского, и Жуковский, дня всего в три, захвативши маленький хвостик четвертого, написал стихотворную повесть. Он же от себя несколько раз писал москвичам, чтобы ждали, чтобы не выпускали первого номера, даже если первый номер и набран уже, что можно совершенно отдельно набрать и без всякой нумерации поместить впереди, лишь бы обновленный журнал непременно вышел с вещью Жуковского, которая, без сомнения, придаст изданию особенный вес.
С нетерпением ждал он этого первого номера. Москвичи, по обыкновению, долгонько не присылали. Наконец он увидел первые номера. Статьи самого Ивана Киреевского показались ему замечательны, дельны, однако замечательны и дельны только местами, поскольку были ослаблены чрезмерной московской отвлеченностью автора, тогда как многие вещи следовало бы сказать осязательней, очевидней, короче и проще, в видимую плоть облекая всякую мысль, чтобы не философ брал верх над художником, а художник брал верх над философом, чтобы критик многие вещи чувствовал не вкусом ума, пусть и тонкого, но вкусом сердца, вкусом души, не затемняя того прекрасного, истинного, чего было много и было бы много больше в этих искусных статьях.
Так и представилось ему сгоряча, что великая Русь наконец ожила, что русский хороший образованный человек таки двинулся с места, а уже после него сдвинутся с места и прочие байбаки и хомяки, и на место бестолковейших споров о том, квадратное или крестообразное основание под собором святого Марка в Венеции, или о прочих материях, хотя возвышенных и любопытных, однако вовсе бесплодных для нас, явятся простые, понятные и полезные для земли всей дела. Так и двинулся его труд над поэмой.
Но уж это была последняя сильная вспышка надежд и труда. Спустя каких-нибудь несколько дней он узнал, что Михаил Петрович, то ли из черной зависти к молодому таланту, то ли по нелепому своему воспитанию, пустился ставить Ивану Васильевичу толстенные палки в колеса. Итог получился слишком плачевный. Иван Васильевич, человек, естественно, русский, чересчур нервный, деликатный и тонкий к тому же, в несколько месяцев подорвал свое здоровье донельзя в непрестанных пустяковых стычках с Михаилом Петровичем, выпустил с грехом пополам ещё одну книжку, поместив в ней своих всего две коротких заметки, вновь бросил всё дело на руки Михаилу Петровичу и удалился в деревню, на этот раз, кажется, навсегда.
Вот после этого и твори какие-нибудь нетленные образы русских богатырей да могучих русских движений! Вот такого рода примерами и востри свое словно ржавчиной тронутое, словно свинцом налитое перо!
Глава восьмая
Сожжение
От всех этих разладов здоровье его заметно с каждым днём разрушалось. Первым мрачным предвестником явилась бессонница. Сначала понемногу, помалу. То подолгу не засыпалось. То вдруг просыпалось посреди ночи и уже нельзя было глаз сомкнуть до утра. А там чем дальше, тем больше. И уже, глядь, он дошёл до того, что не мог вовсе заснуть и не спал по две и по три и по четыре ночи подряд.
Он схватился за испытанное лекарство и пустился в Париж. Однако в Париже приключилось ненастье, слякоть и прочая дрянь, так что пришлось убираться обратно, и пока он скакал по дорогам, чувствовал себя вполне сносно, а только добрался до места, как вновь навалилась хандра, точно старым овчинным тулупом накрыли его с головой, так что и скинуть нельзя и нечем дышать. Он видимо изнурялся духом и телом. Наконец в нем расклеилось всё. Он весь дрожал, беспрестанный чувствовал холод и не мог согреться ничем. Он весь исхудал, как скелет, и всякая косточка в этом слабом скелете нещадно болела. Пожелтело лицо, руки распухли и посерели и были как лёд, так что прикосновение их пугало его самого. Беспокойство духа одолевало его, и невозможно было понять, беспокойство ли шло от слабости тела, тело ли слабело от беспокойства души. Он боролся с тем и с другим беспрестанно и даже скрыл свое состояние от Жуковского, но сил на борьбу становилось всё меньше, и ему приходилось так тяжело, что он готовился совершенно раскланяться с жизнью.
В этом сумрачном состоянии ещё раз возможно пристальней порассмотрел он написанные листы, чтобы составить себе прочное представление, что останется после него, если Бог так решит и раскланяться с жизнью всё же придется. Отвращение охватило его. Всё написанное сущей представлялось ему дребеденью. Он не мог позволить себе, чтобы весь этот дрязг и позор печатался после его неминуемой смерти. Он долго сомневался и колебался, а все-таки бросил «Мёртвые души» в огонь, окончательно занемог и вызвал запиской священника:
«Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю…»
Священник явился, как должно, и причастил. Николай же Васильевич, ещё помня о нашем неразумии и торопливости в самых важнейших делах, так что чем дело выпадает серьёзней, тем русский человек поступает неразумней и торопливей, шептал угасающим голосом, не в силах от влажной подушки оторвать точно налитой свинцом головы:
– Отец мой, умоляю вас тела моего не погребать до тех пор, пока не явятся явные признаки тления.
Служитель Господа низко склонялся над ним, касаясь его лица бородой, не понимая его, и он из последних сил говорил:
– Умоляю вас потому, что уже находили на меня минуты полного онемения, так что переставали биться сердце и пульс.
Служитель Господа осенял его быстрым мелким крестом и согласно кивал головой. Он же продолжал наставлять, уже неважно видя его:
– Тело же мое земле предать, не разобравши места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом. Стыдно тому, кто привлечется вниманием к персти гниющей, которая уже не моя: он поклонится червям, грызущим её. Пусть лучше покрепче помолится о душе моей, а вместо почестей погребальных простым обедом угостить от меня нескольких не имущих насущного хлеба. Памятника надо мной никакого не ставить и не помышлять о таком пустяке.
И ещё носилось в уме его, уже погружавшемся в глухое беспамятство: