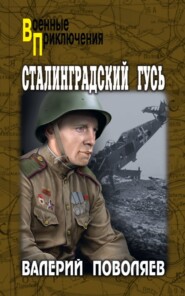По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь кочевника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тебя, – ответил старший из тройки, он стоял посередине.
– Зачем?
– Вопросы здесь задаем мы, а не ты, понятно? – старший приподнял пистолет. – Пошли!
Дальневосточный мичман хотел спросить, кто эти гости и куда это «пошли», на какую Кудыкину гору, но вовремя сообразил, что этого лучше не делать, любой вопрос, даже слово любое сработает против него, в результате в голове может образоваться дырка от пистолетной рукояти, поэтому проговорил покорно:
– Сейчас, я только куртку возьму.
– Пошли, пошли! Никаких курток!
Раз «никаких курток» – значит «никаких курток»; он нащупал в кармане ключи от квартиры, хлопнул дверью, защёлкивая автоматический замок, и как был в старой тельняшке, с дырками под мышками, в домашних тапочках (хорошо, что они были кожаные, на резиновом ходу, как туфли), поспешил по лестнице вниз, сопровождаемый тремя вооруженными людьми.
Похоже, ситуация, в которую он попал, ландышами не пахнет, вряд ли ему сегодня будут преподносить цветы и произносить слова, соответствующие торжественному моменту, а ведь он сегодня решил пройтись по Киеву и посмотреть места своего детства, а заодно попить где-нибудь холодного пива, доставить себе удовольствие. Но вместо этого под тремя пистолетами отправляется неведомо куда. Вот ведь дела какие…
У подъезда стояли две машины. Как и положено – чёрные, только не «Волги», а заморские иномарки, чистенькие, вымытые.
Именно иномарки подсказывали ему, что имеет он дело не с суровыми органами, не с представителями властей, а с бандитами. Хотел спросить у предводителя, не перепутали ли его с кем-нибудь из знакомых киевлян, которых ожидала такая честь – конвой с тремя стволами, но и на этот раз смолчал, поскольку понимал: ребята эти цикаться не будут. Поэтому из трамвая лучше не высовываться.
Его засунули в середину здоровенной иномарки, велели повесить на рот замок, и чем тяжелее этот замок будет, тем лучше, и машина двинулась по тихой тенистой киевской улице.
Мичман нагнулся, посмотрел на свои ноги, с которых тапочки соскальзывали – не держались, хотя и были растоптанные, старые, но что было, то было. Хотел нагнуться, поправить, но сдержал себя: не надо этого делать, иначе пистолетом врежут по затылку.
Он понимал, что история эта может закончиться плохо – изрубят его в капусту и по шматку выбросят в сухую крапиву на каком-нибудь грязном пустыре. Всего выбросят, ничего не оставят, даже куска волос, выдранного, извините, из задницы. Грустно ему было сделалось, если не хуже, чем просто грустно.
Жаль, что он не знает молитв, не удосужился выучить, хотя время было, и нужда в молитвах была и ранее. Но не получалось, не выучил ни одной молитвы. А ведь бабушка, например, когда-то ставила его рядом с собой перед иконой и читала молитвы. Внука заставляла креститься, и он послушно это делал. Одна молитва ему особенно нравилась, хотя формулу «нравится – не нравится» применять здесь просто глупо: ну, разве может молитва не нравиться? Это же молитва, её обсуждать нельзя, её надо читать перед иконой вслух… Можно читать и про себя – Бог её обязательно услышит, можно и в галдящей толпе людей, без иконы – молитва все равно дойдет куда надо.
Он начал вспоминать ту давнюю бабушкину молитву, ведь русский человек должен перед смертью обязательно прочитать молитву, а ещё лучше – причаститься, если есть такая возможность. Как же звучали те слова? «Отче наш»… «Отче наш»… Машину тряхнуло на выбоине, рассекшей асфальт, – какие-то ассенизаторы или прокладчики самогонных труб раскурочили дорогу, а заделать её до конца не заделали, – мичман повалился на одного из охранников, лысого кренделя с густой бахромой, растущей прямо из носа.
Крендель грубо откинул его от себя:
– Держись прямо, кисель! Не растекайся!
Дальневосточный гость вздохнул и выпрямился, будто в самого себя загнал кол.
«Отче наш, Иже еси на Небесех! Да светится имя Твоё…» Молитва сама по себе воскресала в нем – вот что значит вместе с бабушкой молиться перед иконой, – проявлялась из притеми прошлого, возникала в голове, находила свою полочку, занимала там место. Неожиданно внутри у мичмана сделалось спокойно, будто ничего не происходило. Так спокоен бывает человек, который, поплутав изрядно в лесу, неожиданно натыкается на протоптанную тропку и дальше идет по ней, поскольку понимает: тропка эта нахоженная обязательно выведет к людям, к жилью.
«Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, Да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земли».
Тут обе машины, будто были привязаны к одной направляющей верёвочке или к прицепу, одному на двоих, совершили крутой поворот и втянулись в длинную, темную аллею, с двух сторон обсаженную благородными высокими туями.
В конце аллеи темнели глухие, как в воинской части, ворота, но это была не воинская часть, поскольку на воротах не было красной звёздочки, свидетельствующей о принадлежности подворья к армии, – ворота были выкрашены в обычный черный цвет. Краска бала свежая – ворота блестели, как хорошо надраенные голенища офицерских сапог.
На несколько мгновений машины остановились перед воротами, из будки вышел человек в чёрной одежде. Он ещё издали засек гостя – мичмана в домашней поношенной тельняшке, понурого, с опущенными плечами, – приблизился к автомобилю, глянул на пленника.
Сидевший впереди молодец наклонил голову, не сказал ни единого слова, – этот моряк с нами, мол, и охранник ткнул пальцем в сторону ворот. Над воротами тут же завозился, заскрипел суставами плохо смазанный железный механизм, две тяжёлые створки, похожие на самостоятельные толстые стенки, стали отползать в глубину пространства, освобождая место для проезда.
Мичмана привели в большой зал, где было много хрусталя и ковров, в глубоком кожаном кресле сидел человек с восковым, жёлтого костяного цвета лицом и неторопливо потягивал из длинной золочено-резиновой трубки кальян… Любитель был, восточные курева обожал… Увидев мичмана, он попытался сдвинуть вместе брови, но сердитого выражения у него не получилось – брови у него давным-давно вылезли. Надо полагать, от старости лет – ведь этому герою восточных сказок было не менее девяноста. Либо брови съела какая-нибудь неведомая болезнь, название которой дальневосточный мичман не знал.
– Это он? – недовольно проскрипел старик.
– Он.
– Точно?
– Абсолютно точно, шеф.
А мне кажется, что не точно, – скрип, выползающий изо рта старика, неожиданно сделался ласковым, и мичман мигом почувствовал опасность: знал по прежней поре, что означают ласковые нотки, внезапно появляющиеся в голосе таких людей. «Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земли». Молитва, которую он повторял вслед за бабушкой, протиснулась сквозь годы, отряхнулась – он вспомнил её, поскольку пришёл к выводу – не милиция может спасти его, не пожарники с их лестницами – почему-то именно они пришли в его голову, – а только молитва. И не родные вооруженные силы, а молитва.
И он продолжал читать про себя молитву, вернее то, что вспомнил. Человек с костяным лицом продолжал спокойно посасывать золотой мундштук своего кальяна, охранник, неподвижно стоявший около кресла, буквально сверлил глазами мичмана, контролируя каждое его движение.
Если бы мичман резко шевельнулся или сделал хотя бы один шаг к «солнцеликому» патрону, охранник просто-напросто перекусил бы ему горло. Расклад сил был понятен. Мичман продолжал молиться, вспоминая своих дальневосточных друзей, корабль свой, который считался хоть и океанским, но в океан не выходил, обслуживал береговую линию, и улыбчивых знакомых, ожидавших его на берегу, – в основном женского пола. Ему делалось легче, и он начал надеяться, что передряга, в которую он попал, закончится благополучно, он выскочит из неё.
В хрустальном зале, где каждая стекляшка блистала золотым отсветом, пускала в пространство нарядные блики, делавшие зал праздничным, сказочным и немного таинственным, вновь появился старший того самого конвоя, который привез мичмана сюда.
Сумрачно глянув на мичмана, старший подошел к солнцеликому и зашептал ему что-то на ухо. Старик, не вынимая изо рта мундштука, качнул головой согласно и, поморщив лоб, шумно схлебнул сладковатое воздушное варево, которое высасывал из сосуда.
– Пошли! – сказал старший и, подойдя к мичману, взял его за локоть. Пальцы у парня были железные, не вырваться – видать, каждый день ходил на тренировки.
– Куда? – непонимающе спросил мичман.
– Куда, куда… Вот непонятливый! – Старший недовольно хмыкнул, но продолжать разговор не стал.
Во дворе, обшитом ровными каменными плитами, он поманил к себе пальцем одну из чёрных машин, та послушно тронулась с места и через мгновение остановилась рядом с ним.
Подтолкнул к машине мичмана.
– Куда? – угрюмо поинтересовался мичман.
– Куда скажешь, туда и отвезут.
– Мне бы домой, откуда вы меня забрали.
– Вот туда тебя и отвезут. А нас извини, мужик, ошибочка вышла.
Через полчаса мичман уже находился за столом, на котором стояла тарелка с остывшим борщом.
– Если бы не молитва бабушкина, вряд ли бы я вернулся тогда домой, – втолковывал он потом мичману Яско, – молитва меня спасла.
Этот случай, рассказ о нём сейчас и вспомнил Анатолий Яско. Товарищ его дальневосточный был таким же безбожником, как и Яско, так же гонял подчинённых, словно сидоровых коз, если у кого-то в тумбочке или обычном настенном ящике обнаруживал бумажную икону либо какую-нибудь брошюрку церковного содержания, так же, как и Яско, не терпел, наказывал виновного.
Но вот жизнь прижала его, придавила коленом к стенке, и он сразу вспомнил, что есть Бог… А Яско? Яско об этом ещё не вспомнил. Он глядел на мокроголовых, беззаботно галдящих новобранцев, неожиданно засёк, точнее, каким-то внутренним нюхом, аппаратом, вживлённым в сердце, в душу, почувствовал, как у него почти невесомо, неощутимо задёргался один глаз. Левый, с той стороны, где находится сердце. Может, это до него дошёл какой-то сигнал сверху, позыв, свидетельствующий о том, что он не очень-то правильно живёт, надо менять направление своей жизни? А?
2
…Прошло несколько лет.
За прошедшее время Яско и в походах, самых разных, успел побывать, и на берегу послужить, и в ледяную воду опрокинуться, и жареной трески, пойманной в воде родного моря, съесть столько, что мичмана можно было уже называть «тресковой душой» …
– Зачем?
– Вопросы здесь задаем мы, а не ты, понятно? – старший приподнял пистолет. – Пошли!
Дальневосточный мичман хотел спросить, кто эти гости и куда это «пошли», на какую Кудыкину гору, но вовремя сообразил, что этого лучше не делать, любой вопрос, даже слово любое сработает против него, в результате в голове может образоваться дырка от пистолетной рукояти, поэтому проговорил покорно:
– Сейчас, я только куртку возьму.
– Пошли, пошли! Никаких курток!
Раз «никаких курток» – значит «никаких курток»; он нащупал в кармане ключи от квартиры, хлопнул дверью, защёлкивая автоматический замок, и как был в старой тельняшке, с дырками под мышками, в домашних тапочках (хорошо, что они были кожаные, на резиновом ходу, как туфли), поспешил по лестнице вниз, сопровождаемый тремя вооруженными людьми.
Похоже, ситуация, в которую он попал, ландышами не пахнет, вряд ли ему сегодня будут преподносить цветы и произносить слова, соответствующие торжественному моменту, а ведь он сегодня решил пройтись по Киеву и посмотреть места своего детства, а заодно попить где-нибудь холодного пива, доставить себе удовольствие. Но вместо этого под тремя пистолетами отправляется неведомо куда. Вот ведь дела какие…
У подъезда стояли две машины. Как и положено – чёрные, только не «Волги», а заморские иномарки, чистенькие, вымытые.
Именно иномарки подсказывали ему, что имеет он дело не с суровыми органами, не с представителями властей, а с бандитами. Хотел спросить у предводителя, не перепутали ли его с кем-нибудь из знакомых киевлян, которых ожидала такая честь – конвой с тремя стволами, но и на этот раз смолчал, поскольку понимал: ребята эти цикаться не будут. Поэтому из трамвая лучше не высовываться.
Его засунули в середину здоровенной иномарки, велели повесить на рот замок, и чем тяжелее этот замок будет, тем лучше, и машина двинулась по тихой тенистой киевской улице.
Мичман нагнулся, посмотрел на свои ноги, с которых тапочки соскальзывали – не держались, хотя и были растоптанные, старые, но что было, то было. Хотел нагнуться, поправить, но сдержал себя: не надо этого делать, иначе пистолетом врежут по затылку.
Он понимал, что история эта может закончиться плохо – изрубят его в капусту и по шматку выбросят в сухую крапиву на каком-нибудь грязном пустыре. Всего выбросят, ничего не оставят, даже куска волос, выдранного, извините, из задницы. Грустно ему было сделалось, если не хуже, чем просто грустно.
Жаль, что он не знает молитв, не удосужился выучить, хотя время было, и нужда в молитвах была и ранее. Но не получалось, не выучил ни одной молитвы. А ведь бабушка, например, когда-то ставила его рядом с собой перед иконой и читала молитвы. Внука заставляла креститься, и он послушно это делал. Одна молитва ему особенно нравилась, хотя формулу «нравится – не нравится» применять здесь просто глупо: ну, разве может молитва не нравиться? Это же молитва, её обсуждать нельзя, её надо читать перед иконой вслух… Можно читать и про себя – Бог её обязательно услышит, можно и в галдящей толпе людей, без иконы – молитва все равно дойдет куда надо.
Он начал вспоминать ту давнюю бабушкину молитву, ведь русский человек должен перед смертью обязательно прочитать молитву, а ещё лучше – причаститься, если есть такая возможность. Как же звучали те слова? «Отче наш»… «Отче наш»… Машину тряхнуло на выбоине, рассекшей асфальт, – какие-то ассенизаторы или прокладчики самогонных труб раскурочили дорогу, а заделать её до конца не заделали, – мичман повалился на одного из охранников, лысого кренделя с густой бахромой, растущей прямо из носа.
Крендель грубо откинул его от себя:
– Держись прямо, кисель! Не растекайся!
Дальневосточный гость вздохнул и выпрямился, будто в самого себя загнал кол.
«Отче наш, Иже еси на Небесех! Да светится имя Твоё…» Молитва сама по себе воскресала в нем – вот что значит вместе с бабушкой молиться перед иконой, – проявлялась из притеми прошлого, возникала в голове, находила свою полочку, занимала там место. Неожиданно внутри у мичмана сделалось спокойно, будто ничего не происходило. Так спокоен бывает человек, который, поплутав изрядно в лесу, неожиданно натыкается на протоптанную тропку и дальше идет по ней, поскольку понимает: тропка эта нахоженная обязательно выведет к людям, к жилью.
«Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, Да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земли».
Тут обе машины, будто были привязаны к одной направляющей верёвочке или к прицепу, одному на двоих, совершили крутой поворот и втянулись в длинную, темную аллею, с двух сторон обсаженную благородными высокими туями.
В конце аллеи темнели глухие, как в воинской части, ворота, но это была не воинская часть, поскольку на воротах не было красной звёздочки, свидетельствующей о принадлежности подворья к армии, – ворота были выкрашены в обычный черный цвет. Краска бала свежая – ворота блестели, как хорошо надраенные голенища офицерских сапог.
На несколько мгновений машины остановились перед воротами, из будки вышел человек в чёрной одежде. Он ещё издали засек гостя – мичмана в домашней поношенной тельняшке, понурого, с опущенными плечами, – приблизился к автомобилю, глянул на пленника.
Сидевший впереди молодец наклонил голову, не сказал ни единого слова, – этот моряк с нами, мол, и охранник ткнул пальцем в сторону ворот. Над воротами тут же завозился, заскрипел суставами плохо смазанный железный механизм, две тяжёлые створки, похожие на самостоятельные толстые стенки, стали отползать в глубину пространства, освобождая место для проезда.
Мичмана привели в большой зал, где было много хрусталя и ковров, в глубоком кожаном кресле сидел человек с восковым, жёлтого костяного цвета лицом и неторопливо потягивал из длинной золочено-резиновой трубки кальян… Любитель был, восточные курева обожал… Увидев мичмана, он попытался сдвинуть вместе брови, но сердитого выражения у него не получилось – брови у него давным-давно вылезли. Надо полагать, от старости лет – ведь этому герою восточных сказок было не менее девяноста. Либо брови съела какая-нибудь неведомая болезнь, название которой дальневосточный мичман не знал.
– Это он? – недовольно проскрипел старик.
– Он.
– Точно?
– Абсолютно точно, шеф.
А мне кажется, что не точно, – скрип, выползающий изо рта старика, неожиданно сделался ласковым, и мичман мигом почувствовал опасность: знал по прежней поре, что означают ласковые нотки, внезапно появляющиеся в голосе таких людей. «Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земли». Молитва, которую он повторял вслед за бабушкой, протиснулась сквозь годы, отряхнулась – он вспомнил её, поскольку пришёл к выводу – не милиция может спасти его, не пожарники с их лестницами – почему-то именно они пришли в его голову, – а только молитва. И не родные вооруженные силы, а молитва.
И он продолжал читать про себя молитву, вернее то, что вспомнил. Человек с костяным лицом продолжал спокойно посасывать золотой мундштук своего кальяна, охранник, неподвижно стоявший около кресла, буквально сверлил глазами мичмана, контролируя каждое его движение.
Если бы мичман резко шевельнулся или сделал хотя бы один шаг к «солнцеликому» патрону, охранник просто-напросто перекусил бы ему горло. Расклад сил был понятен. Мичман продолжал молиться, вспоминая своих дальневосточных друзей, корабль свой, который считался хоть и океанским, но в океан не выходил, обслуживал береговую линию, и улыбчивых знакомых, ожидавших его на берегу, – в основном женского пола. Ему делалось легче, и он начал надеяться, что передряга, в которую он попал, закончится благополучно, он выскочит из неё.
В хрустальном зале, где каждая стекляшка блистала золотым отсветом, пускала в пространство нарядные блики, делавшие зал праздничным, сказочным и немного таинственным, вновь появился старший того самого конвоя, который привез мичмана сюда.
Сумрачно глянув на мичмана, старший подошел к солнцеликому и зашептал ему что-то на ухо. Старик, не вынимая изо рта мундштука, качнул головой согласно и, поморщив лоб, шумно схлебнул сладковатое воздушное варево, которое высасывал из сосуда.
– Пошли! – сказал старший и, подойдя к мичману, взял его за локоть. Пальцы у парня были железные, не вырваться – видать, каждый день ходил на тренировки.
– Куда? – непонимающе спросил мичман.
– Куда, куда… Вот непонятливый! – Старший недовольно хмыкнул, но продолжать разговор не стал.
Во дворе, обшитом ровными каменными плитами, он поманил к себе пальцем одну из чёрных машин, та послушно тронулась с места и через мгновение остановилась рядом с ним.
Подтолкнул к машине мичмана.
– Куда? – угрюмо поинтересовался мичман.
– Куда скажешь, туда и отвезут.
– Мне бы домой, откуда вы меня забрали.
– Вот туда тебя и отвезут. А нас извини, мужик, ошибочка вышла.
Через полчаса мичман уже находился за столом, на котором стояла тарелка с остывшим борщом.
– Если бы не молитва бабушкина, вряд ли бы я вернулся тогда домой, – втолковывал он потом мичману Яско, – молитва меня спасла.
Этот случай, рассказ о нём сейчас и вспомнил Анатолий Яско. Товарищ его дальневосточный был таким же безбожником, как и Яско, так же гонял подчинённых, словно сидоровых коз, если у кого-то в тумбочке или обычном настенном ящике обнаруживал бумажную икону либо какую-нибудь брошюрку церковного содержания, так же, как и Яско, не терпел, наказывал виновного.
Но вот жизнь прижала его, придавила коленом к стенке, и он сразу вспомнил, что есть Бог… А Яско? Яско об этом ещё не вспомнил. Он глядел на мокроголовых, беззаботно галдящих новобранцев, неожиданно засёк, точнее, каким-то внутренним нюхом, аппаратом, вживлённым в сердце, в душу, почувствовал, как у него почти невесомо, неощутимо задёргался один глаз. Левый, с той стороны, где находится сердце. Может, это до него дошёл какой-то сигнал сверху, позыв, свидетельствующий о том, что он не очень-то правильно живёт, надо менять направление своей жизни? А?
2
…Прошло несколько лет.
За прошедшее время Яско и в походах, самых разных, успел побывать, и на берегу послужить, и в ледяную воду опрокинуться, и жареной трески, пойманной в воде родного моря, съесть столько, что мичмана можно было уже называть «тресковой душой» …