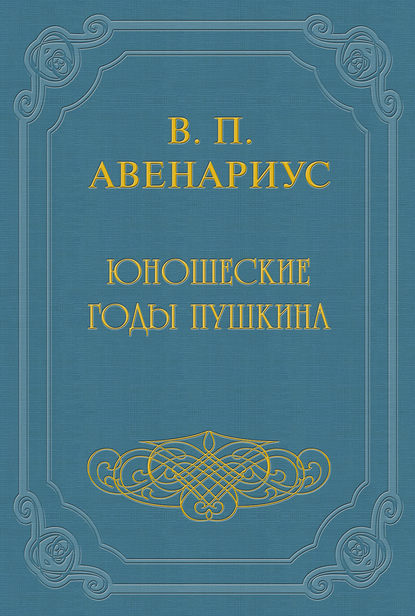По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
«Воспоминание» (1828)
Если Энгельгардт сумел уже внушить уважение и любовь всем вообще лицеистам, то тем более должны были питать к нему чувство благодарности лицейские литераторы, о которых он специально позаботился увеличением библиотеки и устройством чтений. Восторженный Кюхельбекер, а за ним невозмутимый Дельвиг, действительно, сделались самыми усердными участниками литературных вечеров на квартире директора. Один только Пушкин не мог побороть своего врожденного отвращения к немецкому языку, на котором не только зачастую происходили чтения (потому что читались в оригинале и немецкие классики), но велись также разговоры в семье директора. Недавнее посещение «арзамасцев» тянуло его совершенно в другую сторону – к родной литературе. Душевное настроение его в это время лучше всего рисует следующее письмо его к князю Вяземскому от 27 марта 1816 года:
«Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою лень. Так и быть, уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство: сами виноваты! Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания?..
Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради Бога, не Лицея) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину.
Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже… стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над словенскими глупцами
Смеется русскими стихами.
Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Это ужасно! Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой „Россиады“, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную „Академию“ и „Беседу губителей Российского слова…“»
Но вот, очень скоро после этого письма, Пушкин зачастил в дом Энгельгардта, сделался там почти ежедневным гостем. И вдруг, точно так же внезапно, он прекратил опять свои посещения. Что было причиной того и другого?
У Энгельгардта собралось к чаю, по обыкновению, несколько человек лицеистов; был тут и Пушкин. Весь вечер он был в каком-то ненормальном настроении духа. Сперва он был до ребячества весел, до колкости остроумен; потом вдруг стал до беспамятства рассеян, до угрюмости молчалив. Такая перемена совпала в нем как раз с исчезновением из-за чайного стола молодой родственницы хозяина, Марии Смит.
– Да где же Мери? – хватилась ее хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.
Вскоре затем возвратившись, она наклонилась к уху мужа и шепнула ему что-то. При этом взор ее на одно мгновение вперился в лицо Пушкина. Но взор этот был так пытлив и проницателен, что Пушкин зашевелился на стуле и опустил глаза. Между тем Энгельгардт встал и ушел в свой кабинет.
– Что с мадам Смит? – спросил кто-то за столом.
– Ничего… мигрень… – отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардт.
Немного погодя, Егор Антонович вышел опять из кабинета.
Он не взглянул ни на кого, не промолвил ни слова; но пасмурное, почти суровое выражение его лица, всегда столь открытого и приветливого, не предвещало ничего доброго.
Когда пробила половина десятого и лицеисты стали расходиться, Энгельгардт задержал Пушкина:
– Останьтесь на минутку.
Потом, выждав, когда все прочие удалились, он позвал его за собой в кабинет.
– Что это значит, Пушкин? – с сдержанным негодованием заговорил он тут. – Сколько я знаю, вы – хорошего семейства: в лицей воспитанников принимают с строгим разбором; у вас самих есть, кажется, и старшая сестра?
– Есть… – отвечал Пушкин, не смея поднять на директора глаз.
– Как же вы, скажите, позволили себе такую выходку с Мери?
– Что же я такое сделал, Егор Антоныч? Я написал ей только стихи…
– Стихи – да; но какие!
Они стояли около письменного стола, освещенного лампой. Егор Антонович поднял на столе пресс-папье, под которым лежала пачка бумаг. Сверху оказался розовый почтовый листок, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардт взял его в руки.
– Вы не знаете еще никакого различия между людьми! – продолжал он, и в голосе его невольно прорывалось его душевное раздражение. – Не говоря уже о совершенной неуместности вообще обращаться со стихами к молодой даме, когда она со своей стороны не подала к тому ни малейшего повода, – у вас есть тут, например, такие стихи:
О, бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Что это такое, Бога ради, объясните мне? Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакивает своего любимого мужа, без спросу утешает первый попавшийся школьник и для рифмы еще осмеливается называть ее «бесценной подругой»! Скажите: что вы – в уме своем были или нет?
Пушкин молчал, сгорая от стыда и досады. Энгельгардт пристально смотрел на него, как бы стараясь проникнуть в глубину его души.
– Вы не думайте, что я слишком короткое время знаю вас, – заговорил он опять. – Хоть я, правда, здесь в лицее всего несколько недель, но я старался внимательно изучить всех вас и составил лично для себя даже письменно характеристику каждого из вас. Я буду с вами, Пушкин, вполне откровенен: я прочту вам то, чего никому не читал, никому не прочту.
Вынув из стола толстую тетрадь, Энгельгардт стал перелистывать ее[39 - Рукопись Энгельгардта озаглавлена «Etwas ?ber die Z?glinge der hoheren Abtheilung des Lyceums» (т. е. «Кое-что о воспитанниках старшего курса лицея»).].
– Я пишу для себя по-немецки, – объяснил он. – Вы хотя и слабы в этом языке, но, надеюсь, сколько нужно – поймете. Если же чего не поймете, то спросите – я вам переведу. Слушайте, что у меня сказано про вас:
«Его высшая и конечная цель – блестеть, и именно поэзиею; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум».
– Верно это или нет? – спросил Егор Антонович, переставая читать.
– Может быть, и верно… – с глухим ожесточением отвечал Пушкин. – Но если природа отказала мне в настоящем уме, так разве в том моя вина?
– Это было у меня написано до сегодняшнего дня, – сказал Энгельгардт. – Но вот час тому назад, когда госпожа Смит передала ваши стихи, я приписал следующее:
«Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением…»[40 - Если Энгельгардт несколько и ошибался в Пушкине, которого своеобразная, пылкая натура не подходила под общий масштаб, то товарищей его этот опытный педагог оценил чрезвычайно метко. Так, про Кюхельбекера в рукописи его сказано:«Читал все и обо всем; имеет большие способности, прилежание, добрую волю, много сердца и добродушия; но в нем совершенно нет вкуса, такта, грации, меры и определенной цели. Чувство чести и добродетели проявляется в нем иногда каким-то донкихотством. Он часто впадает в задумчивость и меланхолию, подвергается мучениям совести и подозрительности и, только увлеченный каким-нибудь обширным планом, выходит из этого болезненного состояния…»Относительно Илличевского там же сказано, что ранние похвалы повредили этому юноше и что в умственном развитии и науках он остановился на той же степени, на которой находился при поступлении в лицей.]
– Нет, Егор Антоныч! Это уже неправда! – горячо перебил тут Пушкин. – О религии лучше не будем говорить, потому что вы – лютеранин, я – православный; но сердце во мне есть, теплое русское сердце… когда-нибудь вы это узнаете…
В голосе поэта-лицеиста сквозь слезы звучала нота глубоко уязвленного самолюбия.
– Дай-то Бог! – вздохнул Энгельгардт. – Но если так, то чем же прикажете объяснить ваш поступок? Беспредельным легкомыслием, что ли? Скажите: вы любите вашу сестру?
– Как вы еще спрашиваете!
– Очень любите?
– Очень.
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
«Воспоминание» (1828)
Если Энгельгардт сумел уже внушить уважение и любовь всем вообще лицеистам, то тем более должны были питать к нему чувство благодарности лицейские литераторы, о которых он специально позаботился увеличением библиотеки и устройством чтений. Восторженный Кюхельбекер, а за ним невозмутимый Дельвиг, действительно, сделались самыми усердными участниками литературных вечеров на квартире директора. Один только Пушкин не мог побороть своего врожденного отвращения к немецкому языку, на котором не только зачастую происходили чтения (потому что читались в оригинале и немецкие классики), но велись также разговоры в семье директора. Недавнее посещение «арзамасцев» тянуло его совершенно в другую сторону – к родной литературе. Душевное настроение его в это время лучше всего рисует следующее письмо его к князю Вяземскому от 27 марта 1816 года:
«Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою лень. Так и быть, уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство: сами виноваты! Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания?..
Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради Бога, не Лицея) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину.
Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже… стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над словенскими глупцами
Смеется русскими стихами.
Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Это ужасно! Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой „Россиады“, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную „Академию“ и „Беседу губителей Российского слова…“»
Но вот, очень скоро после этого письма, Пушкин зачастил в дом Энгельгардта, сделался там почти ежедневным гостем. И вдруг, точно так же внезапно, он прекратил опять свои посещения. Что было причиной того и другого?
У Энгельгардта собралось к чаю, по обыкновению, несколько человек лицеистов; был тут и Пушкин. Весь вечер он был в каком-то ненормальном настроении духа. Сперва он был до ребячества весел, до колкости остроумен; потом вдруг стал до беспамятства рассеян, до угрюмости молчалив. Такая перемена совпала в нем как раз с исчезновением из-за чайного стола молодой родственницы хозяина, Марии Смит.
– Да где же Мери? – хватилась ее хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.
Вскоре затем возвратившись, она наклонилась к уху мужа и шепнула ему что-то. При этом взор ее на одно мгновение вперился в лицо Пушкина. Но взор этот был так пытлив и проницателен, что Пушкин зашевелился на стуле и опустил глаза. Между тем Энгельгардт встал и ушел в свой кабинет.
– Что с мадам Смит? – спросил кто-то за столом.
– Ничего… мигрень… – отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардт.
Немного погодя, Егор Антонович вышел опять из кабинета.
Он не взглянул ни на кого, не промолвил ни слова; но пасмурное, почти суровое выражение его лица, всегда столь открытого и приветливого, не предвещало ничего доброго.
Когда пробила половина десятого и лицеисты стали расходиться, Энгельгардт задержал Пушкина:
– Останьтесь на минутку.
Потом, выждав, когда все прочие удалились, он позвал его за собой в кабинет.
– Что это значит, Пушкин? – с сдержанным негодованием заговорил он тут. – Сколько я знаю, вы – хорошего семейства: в лицей воспитанников принимают с строгим разбором; у вас самих есть, кажется, и старшая сестра?
– Есть… – отвечал Пушкин, не смея поднять на директора глаз.
– Как же вы, скажите, позволили себе такую выходку с Мери?
– Что же я такое сделал, Егор Антоныч? Я написал ей только стихи…
– Стихи – да; но какие!
Они стояли около письменного стола, освещенного лампой. Егор Антонович поднял на столе пресс-папье, под которым лежала пачка бумаг. Сверху оказался розовый почтовый листок, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардт взял его в руки.
– Вы не знаете еще никакого различия между людьми! – продолжал он, и в голосе его невольно прорывалось его душевное раздражение. – Не говоря уже о совершенной неуместности вообще обращаться со стихами к молодой даме, когда она со своей стороны не подала к тому ни малейшего повода, – у вас есть тут, например, такие стихи:
О, бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Что это такое, Бога ради, объясните мне? Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакивает своего любимого мужа, без спросу утешает первый попавшийся школьник и для рифмы еще осмеливается называть ее «бесценной подругой»! Скажите: что вы – в уме своем были или нет?
Пушкин молчал, сгорая от стыда и досады. Энгельгардт пристально смотрел на него, как бы стараясь проникнуть в глубину его души.
– Вы не думайте, что я слишком короткое время знаю вас, – заговорил он опять. – Хоть я, правда, здесь в лицее всего несколько недель, но я старался внимательно изучить всех вас и составил лично для себя даже письменно характеристику каждого из вас. Я буду с вами, Пушкин, вполне откровенен: я прочту вам то, чего никому не читал, никому не прочту.
Вынув из стола толстую тетрадь, Энгельгардт стал перелистывать ее[39 - Рукопись Энгельгардта озаглавлена «Etwas ?ber die Z?glinge der hoheren Abtheilung des Lyceums» (т. е. «Кое-что о воспитанниках старшего курса лицея»).].
– Я пишу для себя по-немецки, – объяснил он. – Вы хотя и слабы в этом языке, но, надеюсь, сколько нужно – поймете. Если же чего не поймете, то спросите – я вам переведу. Слушайте, что у меня сказано про вас:
«Его высшая и конечная цель – блестеть, и именно поэзиею; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум».
– Верно это или нет? – спросил Егор Антонович, переставая читать.
– Может быть, и верно… – с глухим ожесточением отвечал Пушкин. – Но если природа отказала мне в настоящем уме, так разве в том моя вина?
– Это было у меня написано до сегодняшнего дня, – сказал Энгельгардт. – Но вот час тому назад, когда госпожа Смит передала ваши стихи, я приписал следующее:
«Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением…»[40 - Если Энгельгардт несколько и ошибался в Пушкине, которого своеобразная, пылкая натура не подходила под общий масштаб, то товарищей его этот опытный педагог оценил чрезвычайно метко. Так, про Кюхельбекера в рукописи его сказано:«Читал все и обо всем; имеет большие способности, прилежание, добрую волю, много сердца и добродушия; но в нем совершенно нет вкуса, такта, грации, меры и определенной цели. Чувство чести и добродетели проявляется в нем иногда каким-то донкихотством. Он часто впадает в задумчивость и меланхолию, подвергается мучениям совести и подозрительности и, только увлеченный каким-нибудь обширным планом, выходит из этого болезненного состояния…»Относительно Илличевского там же сказано, что ранние похвалы повредили этому юноше и что в умственном развитии и науках он остановился на той же степени, на которой находился при поступлении в лицей.]
– Нет, Егор Антоныч! Это уже неправда! – горячо перебил тут Пушкин. – О религии лучше не будем говорить, потому что вы – лютеранин, я – православный; но сердце во мне есть, теплое русское сердце… когда-нибудь вы это узнаете…
В голосе поэта-лицеиста сквозь слезы звучала нота глубоко уязвленного самолюбия.
– Дай-то Бог! – вздохнул Энгельгардт. – Но если так, то чем же прикажете объяснить ваш поступок? Беспредельным легкомыслием, что ли? Скажите: вы любите вашу сестру?
– Как вы еще спрашиваете!
– Очень любите?
– Очень.