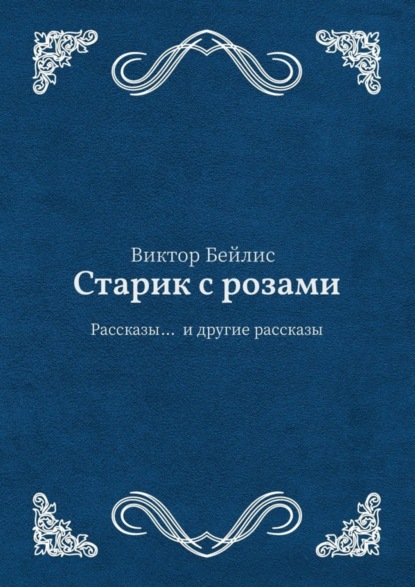По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старик с розами. Рассказы… и другие рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Leb wohl! Leb wohl! Leb wohl, mein s??es Weib!
Мы пошли на звуки музыки. По дороге нам встретился старик, тот самый к которому мы стучались ночью. Он только что вернулся из Москвы и шел через лес домой от дальней станции, до которой поезда ходят чаще.
– Что это за пруд? – спросил Анатолий.
– Да это тут поселился недавно один – то ли немец, то ли еврей. Фамилия какая-то странная: Шванентайх, кажется. Здесь его зовут попросту: «Швайн». Сидел, видать, долго, ни с кем не общается. Вот он и устроил этот пруд. Все по науке, говорят, по каким-то чертежам. Лебедя приманил, вон того, белого. Летать не может – увечный. Второго, черного, сам смастерил. И герб себе на избу придумал – тоже с двумя лебедями. Да вы подойдите ближе, разглядите, вон изба-то рядом.
К избе действительно был прикреплен самодельный герб из раскрашенного дерева. Я не умею блазонировать, но два лебедя – белый и черный – были вписаны в герб, что бы это ни означало.
Музыка стала слышнее, и мы поняли, что играет еще довоенная пластинка с записью Лоэнгрина: классический напряженный вагнеровский тенор. Сильные потрескивания и шипенье – возможно, что и патефон, на котором проигрывалась старая пластинка, был довоенным.
Захотелось посмотреть на хозяина, но стало неловко беспокоить его, и мы покинули этот искусственно-романтический, деланный какой-то уголок.
Мы, должно быть, слегка заблудились, ходили кругами, несколько раз подходили к пруду, где все в той же позиции красовались лебеди, много раз возвращались на поляну, где из поваленного дерева торчала заляпанная уже засохшим желтком поделка резчика. У меня в голове назойливо прокручивалась музыкальная фраза, от которой я никак не мог отвязаться:
Leb wohl! Leb wohl! Leb wohl, mein s??es Weib!
Я подумал: «А что, если это и впрямь окончательное прощание? Прощай, прощай, женушка!»
Выйдя очередной раз к месту нашего привала, уже перестав складывать грибы в корзину за отсутствием места, мы решили, что теперь можно и пообедать и водочки глотнуть. Устроились на том же дереве, раздавили пузырь, развеселились, побалагурили и тронулись в обратный путь – надо было успеть на последний проходящий состав: поезд здесь ходил челноком по тем же рельсам в обе стороны.
На этот раз к паровозу был прицеплен всего один вагон, и он был переполнен. Мы с еще несколькими подошедшими к составу грибниками брали вагон штурмом. В тамбуре было полно народу, но Анатолию удалось пробраться внутрь, я же ухватился руками за поручни, и было ощущение, что вся толпа из тамбура, а также забравшиеся на ступени, оперлись об меня, повиснув всей своей (и грибной) тяжестью на моей особе, имевшей за плечами еще и увесистый рюкзак. Я прикинул, сколько времени я смогу удержать на себе всю эту ношу и спокойно сообщил Анатолию, что продержусь еще секунд семьдесят (думаю, преувеличил собственные силы).
В этот момент поезд остановился, и машинист, испугавшийся возможной ответственности за мою гибель, замахал мне из кабины рукой: давай, мол, ко мне, сюда, и мы с приятелем юрко взобрались в паровоз и с комфортом (сидя!) добрались до самой Москвы.
Мы распрощались на вокзале, договорившись о новых походах, но впереди еще была бессонная ночь, потраченная на спасение грибов: их надо было срочно почистить и обработать, а по возможности и приготовить, чтобы они не пропали.
Смута покинула меня.
Я беспечально встречался с Ниной – до тех пор, пока она не сказала мне, что со мной было хорошо, что она благодарна мне за все, что она будет помнить проведенные со мною дни и еще не раз насладится той моей частицей, которую можно созерцать на сказочной поляне в лесу близ станции Ч., но что наша совместная жизнь все же исчерпана, а у нее новые планы и т.д., и т. п.
Я молча откланялся. Но слова ее задели меня не на шутку. Как? Она побывала на нашей поляне? Она видела хер Попова и знает, что это такое? У всего этого мог быть только один зачинщик!
Я набрал номер Анатолия. Ответил женский голос, который с запинкой объявил мне, что тот больше здесь не живет. Я поинтересовался, говорю ли я с Томочкой и что произошло? Она ответила, что это не телефонный разговор и предложила, если я хочу, зайти поговорить. Я купил бутылку водки и в тот же вечер отправился разузнать, что к чему.
Томочка рассказала, что застала Анатолия у них в спальне с дамой и что вместо покаяния он заявил, будто давно хотел объясниться, чтобы прервать старый брак для вступления в новый.
– Ты знаешь, кто эта дама?
– Нет, я видела ее впервые, но зато сразу без одежды, – с юмором ответила Томочка, та самая, о которой говорилось, что она теплая и уютная. – Впрочем, единственное, что мне известно, – ее зовут Нина. Я слышала, как он называл ее Нинон.
– Господи, – вырвалось у меня.
– Ты ее знаешь?
– Совсем немного. Ладно, Томочка, – сказал я, – не умею я утешать, да меня и самого недавно бросила жена. Давай-ка лучше выпьем, а?
Она сразу согласилась и, ставя на стол маринованные грибочки для закуси, улыбнулась:
– Это те, что вы в последний раз вместе собирали. Я их готовлю по рецепту моей бабушки.
Что я могу сказать? Томочка действительно оказалась теплая и уютная. Через несколько месяцев я уже называл ее своей законной женой.
От старых воспоминаний и от самой былой жизни Томочка хотела куда-нибудь уехать. Представилась возможность эмигрировать в Германию, и мы решились на крутой перелом наших судеб.
Ушло немало лет, прежде чем мы сумели войти в какую-то рутинную колею, когда быт налажен, будущее не пугает, хотя прошлое время от времени все же покалывает. Один из августов мы решили провести в Шпессарте – в том месте, которое славилось своими грибными местами.
Действительно грибов было несметное количество. Немцы их не собирают, предпочитая купить, пусть и задорого, но уж точно проверенные, с надписью: «Steinpilze «или «Pfifferlinge». Грибник в лесу – непременно русский или поляк.
Однажды мы с Томочкой, увлеченные рыжиками, которые в Подмосковье больше не водятся, а здесь их никто не берет, набрели на пруд, вызвавший во мне смутные воспоминания. И впрямь: водоем был словно бы разделен на две части, одну из которых занимал белый лебедь, а другую – черный. Правда, обе птицы были живые, а не деревянные, но двигались они, только если одного из них чем-нибудь побеспокоить. Недалеко от пруда был уединенный дом над дверью которого было написано готическими буквами Freiherr von Swanenteich, а также прикреплен профессионально выполненный герб, на котором были изображены два лебедя с переплетающимися шеями.
Я не стал дожидаться, когда грянет из окон Рихард Вагнер, и увлек Томочку по уходящей вверх тропинке. Музыка все-таки нас настигла, и на этот раз это была «Валькирия». Но мы не остановились – я указал жене на большое скопление маронов, как здесь называют польские грибы, и она устремилась за ними.
Придя домой, я поручил обработку грибов женщине, а сам открыл компьютер. Впервые за все это время мне написал Анатолий. Он спрашивал, уродились ли у нас нынче грибы, и описывал свою недавнюю поездку на наше место. Он сообщал, что хер Попова до сих пор стоит и – «поверишь ли? – прямо-таки лоснится, как я и предсказывал, от захватанности грубыми руками и нежными ручонками, как сиська Джульетты в Вероне, честное слово!». Он извещал меня также, что расстался с Ниной, а моя бывшая жена, которую он на днях встретил на улице, такая же красивая, как и прежде, ну просто красавица. Просил передать привет Томочке.
Я тотчас ответил ему, что страшно рад тому, что хер Попова живет своей отдельной от меня жизнью и что меня самого здесь называют: «Хер П?пов» – с ударением на первом слоге.
Как разгадать все эти сплетения и даже, можно сказать: нагромождения, я, честно говоря, не знаю. Впрочем, знаю, кажется: грибы!
Старик с розами
Много лет я приятельствовал с совершенно очаровательным человеком, О., известным театроведом, знатоком русской культуры, эрудитом, чье суждение было в высшей степени влиятельным для всякого художника, в какой бы области искусства тот ни работал. Он как будто не замечал весомости своих мнений и высказывался всегда исключительно мягко и скромно, почти застенчиво. Даже если он рассказывал о чем-то из истории, чего никто, кроме него, и знать-то не мог, он словно бы ждал возражений и смотрел на аудиторию с неподражаемо вопросительным выражением, избегая при этом распространенного словечка: «да?» Никогда и никто не осмелился бы предложить ему что-либо возглавить: ясно было, что откажется, хотя стоило ему захотеть, и за ним пошел бы кто угодно, так авторитетны были его имя и слава человека безупречно честного и беспредельно осведомленного.
С ним хорошо было разговаривать. Он с самого начала угадывал, к чему клонится беседа, и отвечал сразу же на все вопросы, которые ему можно было бы поставить, так что голоса диалога могли чувствовать себя совершенно равноправными участниками, внесшими свою лепту в разработку заданной темы. Настрой собеседника также не оставался для него тайной, и деликатность его реплик всегда была безукоризненной. Иронию, которая ему была в высшей степени присуща, он, как и многое другое, прятал в усы-щеточку. Но и ничего не могло быть приятней, чем когда усы его топорщились в дружелюбнейшей улыбке.
Если ты притязал на конфиденциальный разговор с ним, он охотно тебя выслушивал и одаривал тебя консультацией, коли ты об этом просил: по собственной инициативе советов не давал. Дозволялся любой градус откровенности, и можно было быть уверенным в том, что ни одна сплетня не укажет на него как на свой источник. Сам он при этом ни с кем не секретничал, и даже немыслимо было представить себе, чтобы он с кем-либо заговорил на личные темы.
Не только я, но вообще никто ничего о его частной жизни не знал. Говорили, что у него некогда была жена, но никто о ней ничего не помнил и подробностей его вдовства не ведал. Неизвестно было даже, подлинно ли он вдов.
Он всегда был не просто ухожен, но одет с иголочки, костюм выглажен и галстук тщательно подобран. Можно было предположить, что за всем этим скрывается женская забота, но все почему-то в этом сомневались. Глаза его молодо горели не только, когда он говорил на увлекающие его темы, но и когда он глядел вслед прекрасной даме, какого бы возраста та ни была – от четырнадцати до девяноста восьми (старше просто не было в кругу наших знакомых, а среди детей я его не видел).
Я догадывался, что он ведет дневник, но никогда не мечтал даже, что мне удастся хотя бы краешком глаза заглянуть в него. А между тем – вот он, его дневник, у меня в руках. Специальным пунктом в его завещании было пожелание, чтобы все его записи были переданы в мое распоряжение вместе с правом на использование дневника по моему усмотрению, но лишь по прошествии десяти лет со дня его смерти.
Десять лет прошло, а я все еще не решил, что делать с его дневником. Кажется, что записи, а его дневник – это именно записи с обозначением чисел, дней недели, а иногда даже и времени суток, – представляют собой нечто цельное, написанное словно бы единым махом и согласно обдуманному замыслу. Рука не поднимается разрознить листы, превратить их в фрагменты, а между тем ясно, что при нелюбви автора к публичности и совершенно явной его стыдливости, он ни при каких обстоятельствах не одобрил бы публикацию небывало откровенных заметок, затрагивающих не только его частную историю, но и подробности жизни других персонажей, названных своими (почти всегда известными) именами.
Объяснюсь более толково. То, что я сейчас предлагаю вниманию читателей, не является ни в малой мере публикацией дневника или его отрывков. Здесь даже не будет, за редким исключением, прямой речи, в смысле подлинного текста черновика. Я просто выделил из рукописи один небольшой сюжет, который меня тронул необычайно, – ну да, сюжет для небольшого рассказа, который я изложил своими словами. И хотя выразительные средства, имеющиеся в моем обиходе, несравненно беднее тех, что можно найти в подлиннике, я попробовал оторваться от него, будто я не пересказываю прочитанное, а воспроизвожу нечто, чему был свидетелем, или же попросту измыслил. Я и говорить иногда буду как бы от первого лица, хотя эти куски – вовсе не цитаты. Пусть читателя не сбивает с толку, что мой герой подчас выступает под разными местоимениями, то есть первое и третье лицо в тексте повествуют об одном и том же персонаже. Ну, а я (да, в каком-то смысле и плагиатор!) исчезаю.
В 19… году О. решил прокатиться на речном корабле по Волге с заездом в и остановкой на несколько дней в больших и малых городах – по собственному выбору. Продолжительность остановки определялась на месте: в, казалось бы, небольшом и ничем не примечательном поселении он мог задержаться на целую неделю, а знаменитые географические пункты не вызывали в нем подчас ни малейшего интереса.
Впрочем, в Саратове О. планировал остановиться дней на пять: он хотел познакомиться с местным драмтеатром имени И. А. Слонова, посетив по возможности три-четыре спектакля. Некоторое разочарование постигло его, когда выяснилось, что театр Слонова уехал куда-то на гастроли, а в его помещении гастролирует Эльский театр драмы. Что ж, решил О., когда еще придется побывать в Эльске, тем более, по слухам, там была блистательная молодая актриса родом, кажется, из Одессы. Фамилии ее он не помнил, но надеялся, что, увидев афишу, поймет, о ком ему рассказывали. Да и не в этом же дело: не та актриса, так другая. Или актер. Репертуар разнообразнейший – от фарса до трагедии.
Первой по календарю выходила «Женитьба» Гоголя. О. пошел.
Постановка сильно насмешила О. Она была выдержана в капустническом духе и как если бы режиссерский план был составлен и опубликован Ильфом и Петровым в книге «Двенадцать стульев». Это была такая доморощенная и уже не актуальная ни в какой мере мейерхольдовщина. Однако же Агафья Тихоновна была воистину ослепительна (заглянув в программку, О. тотчас вспомнил, что именно это имя – П. – ему и называли). Ах, как произнесла она эту знаменитую и затасканную реплику: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась. А теперь – поди подумай!». Как чувственно, почти плотоядно называла она части тел своих женихов, будто ручкой своей ощупывала то, что упоминала! Как подрагивала в нетерпении и разнузданности воображения! Замуж! Сей же час! И вначале блеск в глазах, а потом и померкший взгляд – все было подлинным, эротическим, отчаянным, тоскливым, безнадежным!
Мне непременно нужно было видеть П. и в других ролях, я почти уверен был, что она может всё, что трагедия ей подвластна в той же мере, что и водевиль. На другой день давали «Грозу», и я уже прочел в афише, что Катерину должна была исполнять П. Купив самый большой букет, какой можно было найти на Саратовском рынке, я отправился на спектакль.
Все в спектакле раздражало: утрированное мракобесие Кабанихи, дебильное слабоволие и инфантильность Тихона, кликушество полоумной барыни, комикование Варвары и Кудряша, невыразительность Бориса, да и все прочтение пьесы, опирающееся на школьную трактовку, восходящую к добролюбовской. Но – вот уж воистину по добролюбовскому слову – «Луч света»! Да что там луч, – сноп, это был сноп света! Она играла любовь, она жила любовью, и пропади пропадом все остальное! «Что меня жалеть – никто не виноват, – сама на то пошла. Не жалей, губи меня!» Я, честное слово, различил в темноте зала гусиную кожу на руках моих соседей по креслу, когда П. произнесла эту реплику. И, обретя любовь, Катерина уже не может ни смиренничать, ни притворяться, да и существовать во лжи ей не по силам. С ужасом спрашивает она: «Опять жить?»