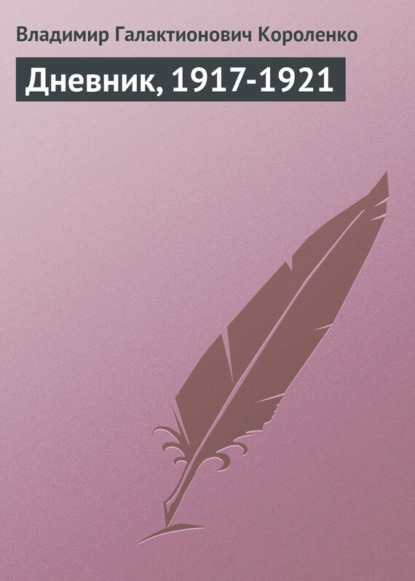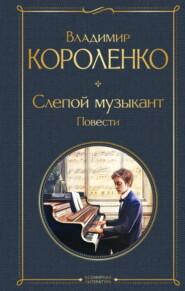По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник, 1917-1921
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, я тоже хотел сейчас освободить ее и даже написал ордер. Но потребовал дело и узнал, что оба они ‹укрывали› бандитов, и отменил. Девочка приходила. Очень бойкая… Прямо требовала… Но, как видите, – нельзя.
Приходится отметить еще дело Кучеренко. На хуторах Голтва, Байракской волости, Полт‹авского› уезда, двое большевиков-красноармейцев Гудзь и Кравченко арестовали целую группу лиц: Захария Кучеренка, Фед. Павл. Нестеренка, Фед. Власенка, Фед. Лавр. Нестеренка. Кучеренка и Фед. Павл. Нестеренка арестовали 16 февраля[20 - Здесь дата указана по старому стилю.]. При обыске у первого нащупали деньги (500 р. бумажками и 35 р. серебром). Отведя с версту (вечером), Нестеренка вдруг надумали отпустить, а Кучеренка повезли дальше…
На следующий день (17-го) Нестеренка опять взяли вместе с другими жителями хуторов (Власенко и еще один Нестеренко) и повезли сначала в волость (теперь конвоировали уже другие), а потом в Чрезвычайную Комиссию. Кучеренко же пропал без вести.
– У меня, – говорю я, – была его жена. Она в страшном горе. Вы, верно, согласитесь, что она имеет право знать, что сделано с ее мужем, арестованным от имени комиссии.
Он соглашается. Но не знает адреса того, кто арестовал. Гудзь убрался на фронт. Кравченко остается дома на хуторе Семенцово, той же Байракской волости. Мне приходится или дать адрес, настаивая, чтобы у этого человека спросили отчет о том, куда он девал арестованного им человека, с риском, что его расстреляют, или отказаться. Я вспоминаю истомленное лицо жены, ее блуждающий взгляд, ее тоску, когда она говорит о детях, ее беспомощность, когда она рассказывает о напрасных поисках… Да, она имеет право знать, что этот Каин сделал с арестованным ее мужем. Я говорю:
– У меня есть адрес, я вам сейчас принесу его.
– Тогда мы сейчас дадим телефонограмму в волость, чтобы его арестовали и доставили сюда…
Я ухожу за адресом. У меня он записан, и через полчаса приношу его. Пусть совершится то, что последует за этим.
Впрочем, – Бог знает. Может, и ничего не совершится[21 - На полях дневника карандашом против этих слов рукою В. Г. Короленко написано: «Так и вышло».].
Остальных арестованных на том же хуторе, как говорит мне Сметанич, уже отпустили. Значит, наверное, отпустили бы и несчастного Кучеренка, если бы не деньги… Но к Праск‹овье› Сем‹еновне› приходили жены, которые были у тюрьмы и видели своих мужей еще там. Может быть, впрочем, что только отдан приказ…
Во время разговора в комнату входит «товарищ Роза». Это популярное теперь среди родственников арестованных имя. «Товарищ Роза» – следователь. Это молодая девушка, еврейка. Широкое лицо, вьющиеся черные волосы, недурна собой, только не совсем приятное выражение губ. На поясе у нее револьвер в кобуре…
Спускаясь по лестнице, встречаю целый хвост посетительниц. Они подымаются к «товарищу Розе» за пропусками на свидание. Среди них узнаю и крестьянок, идущих к мужьям-хлеборобам, и «дам». Тут г-жа Дейтрих, жена сенатора и члена Государственного совета, бывшего помощника финл‹яндского› генерал-губернатора (Бобрикова), и дочь бывшего губ‹ернского› предводителя дворянства Бразоля… Я говорил уже в чрезвычайке об обоих. Первый хотя был помощником негодяя Бобрикова, с которым у меня лично было столкновение (он требовал, чтобы «Р‹усское› богатство» опровергло собственную фактически правильную статью. Мы отказались, и журнал был приостановлен на 3 месяца), но сам Дейтрих представлял фигуру бесцветную, скорее, помнится, мягкую. Предводитель дворянства Бразоль тоже особенно ретроградством не отличался. Общедворянская фигура. Оба – помещики. Обоих обвиняют теперь в «контрибуциях» и участии (хотя бы и косвенном) в карательных отрядах в гетманское время. У Бразоля останавливались немцы. Дочь говорит, что это оттого, что по соседству нет других помещиков, но что Бразоль их не призывал. С населением у него отношения недурные. Как бы то ни было, именно из его усадьбы немцы и гетманские усмирители делали набеги на соседние деревни, и создавалось впечатление, что это он их направляет.
Теперь обоим бедным генералам пришлось испытать превратность российских судеб. Я сказал в их пользу то, что мог сказать: они сами не свирепствовали, скорее были благодушны. И нельзя же карать только за прошлое «положение»…
Наташа провожала меня во второй раз и дожидалась у входа в чрезвычайку. Среди ожидавших ропот: «держат невинных и нет доступа». Красноармейцы вступают в спор. Две девушки, по виду швейки или модистки, говорят особенно резко:
– Держат невинных, а вот около нас живут свободно заведомые воры. Мы скажем это кому угодно…
Их арестуют… «Агитация против советской власти».
Дома ко мне является жена Павла Петр. Супрягина, который был в Миргороде месяца 1 Г повитовым старостой. Она совершенно глухая и очень несчастная. Не может рассчитать напряжение голоса, взволнована до истерики и начинает прямо с резкого крика, который производит ужасное впечатление. Ее мужа арестовали утром и к вечеру расстреляют. Это сказал большевик… «Спасайте, спасайте». Я ее успокаиваю насчет расстрела без суда… Но… не уверен, что будет после суда. Это третий миргородский администратор… Теперь в Миргороде были расстреляны большевики. Можно опасаться слепой мести.
5 апреля
Вчера Конст. Ив. Ляховича исключили из исполнительного комитета (куда он был выбран железнодорожными рабочими) за речь в револ‹юционном› «совете». Это даже не публичное выступление, а речь им же, в закрытом заседании. «Говорите нам только приятное»… Были даже голоса: «Установить за Ляховичем надзор!» Слепые люди, сами закрывающие свои глаза и уши.
6 апреля
Вчера у меня был день тревожный. Стало известно, что вчера утром действительно расстреляли 8 человек, взятых из тюрьмы. Есть слухи, что часть тут бандитов, вырезавших еврейскую семью, которых будто бы поймали. Но часть безусловно политических. Известны некоторые фамилии: Левченко, например, – бывший адъютант губерниального старосты, вероятно Ноги. Нога изрядный негодяй, при котором действительно происходили оргии разнузданных карательных экспедиций. В какой степени во всем этом участвовал Левченко – не знаю. Кажется, у него найден склад оружия. Второй Шкурупиев из Решетиловки[22 - На полях дневника пометка В. Г. Короленко карандашом напротив этого места: «Шкурупиев».]. О нем я спрашивал в чрезвычайке. Сметанич сказал: – О, это у них деятель! Он ездил в Берлин! – Я выразил крайнее удивление: у меня отмечено, что Шкурупиев старик, казак, земли у него в нераздельном владении 15 десятин на троих. Занимался в довольно широких размерах земледелием и баштанами. В последнее время, когда землю снимать под баштаны стало нельзя, стал торговать. Жена, приходившая ко мне, производит впечатление простой зажиточной крестьянки. Чтобы узнать о муже, обратилась ко мне, придя из Решетиловки пешком (36 верст!). Я узнал, что он «деятель и ездил в Берлин». По моим, может быть, тоже односторонним сведениям, это хлебороб, даже не записанный в Общество хлеборобов. Был при гетмане назначен волостным головой, но нарочно ездил в Полтаву и отказался. В волости должна храниться телефонограмма: «За отказом Шкурупиева наметить другого».
Я сказал все это и выразил предположение, что тут какое-то роковое недоразумение. Я никак не думал, что у них это дело уже решено. Вероятно, сегодня придет опять за 36 верст жена. Придется сообщить…
Когда я разговаривал вчера с кем-то еще из таких же несчастных, пришла опять глухая жена Супрягина и молоденькая жена Левченко. Прасковья Семеновна шепчет, когда я проходил с последней переднюю:
– Сегодня расстрелян!
Я понял, что расстрелян Супрягин. Это поразило меня ужасно, и я провел минут 20 в уверенности, что говорю с вдовой. Она сегодня спокойнее… Утром видела мужа. Кроме того, сообщает, что при обыске у мужа нашли какие-то рекомендательные письма от Раковского, по которым он и был принят на службу уже при большевиках… Дело разъясняется, когда я ввожу в кабинет Левченко и иду провожать жену Супрягина: Праск‹овья› Сем‹еновна› говорит, что расстрелян Левченко, а не Супрягин. Значит, предстоит другой разговор в том же роде…
Г-жа Левченко значительно спокойнее. Она слышала, что мужа расстреляли, мало, по-видимому, надеялась и теперь хочет только узнать наверное.
Этой ночью предстоят, вероятно, новые расстрелы. Называют Сподина, который раз уже был арестован при Николаеве и отпущен, так как выяснилось, что он лично никаких свирепостей не производил. Жена и семья истомилась страшно. Последние крохи, какие можно было достать, отдала, не посоветовавшись со мной, присяжному поверенному Александрову, двусмысленному человеку, постоянно вертевшемуся у чрезвычайки (после ему запретили ходить туда, и он пытался примазаться ко мне и Праск‹овье› Сем‹еновне›, – но мы решительно это отклонили). Когда Сподина ‹арестовали›, он, «зная, что семья бедная», взял только две тысячи! Теперь какой-то вторичный донос, вторичный арест и страшная новая тревога. Я говорил с тов‹арищем› председателя чрезвычайки о Сподине, но, видимо, бесполезно. Он слушает только себя, как заядлый спорщик на митингах, и мне приходится возвысить голос, чтобы хоть отпечатлеть в его слухе категорическое заявление, что мне дело Сподина отлично известно и что он ни в каких карательных экспедициях не участвовал.
Приходится принимать экстренные меры: с Немировским
и Соней мы едем к Алексееву, губ‹ернскому› комис‹сару› по гражд‹анской› части. Это человек, с которым можно говорить с надеждой, что он поймет. Но его нет. Отправляемся в театр (там концерт и митинг), Алексеева и там нет. Частного адреса его нигде не знают, даже на телеграфе. Находим в театре Чугая, который теперь исправляет должность тов‹арища› председателя «ревкома». Интеллигентный молодой человек (недавно окончивший гимназию). Выслушивает внимательно. Я показываю карточку Раковского, к которой до сих пор прибегал только раз и на которой написано, чтобы мне оказывали содействие при пересылке корреспонденции, – и он подписывает текст моей телеграммы: «Под влиянием миргородских событий Чрезвычайной Комиссией производятся без суда расстрелы, постигающие не одних бандитов, а имеющие характер политической мести за прошлое. Заклинаю приостановить эти безрассудные расстрелы, бесцельные и жестокие. В числе обреченных Сподин, за которого убедительно ходатайствую».
Телеграмму подаю срочно. Телеграфистка прочитывает, и лицо ее меняется.
– Если бы вы не написали «срочно», мы все равно пустили бы ее как можно скорее.
Текст передается цензору. После некоторых расспросов он соглашается пустить ее в первую же очередь. Оказывается, однако, что «линий на Киев у нас нет» – по телеграфному выражению. Она выключена кем-то для экстренных разговоров. Когда будет опять включена, моя телеграмма пойдет. Но когда это будет, неизвестно. Может, часа через два, может, на всю ночь, а может, и сейчас. Мне обещают отослать, как только явится возможность…
Едва ли уже это сможет повлиять на судьбу сегодняшних обреченных…
Сегодняшние «Известия» не сообщают ничего о расстрелах. Известны фамилии только: Левинец, Шкурупиев, Калюжный. Но всех расстрелянных 8.
10 апреля
С Иларионом Осип‹овичем› Немировским утром поехал в «совет». Чугай в условленное время не пришел, но Алексеев был уже здесь. Мы застали его на заседании «совета». Он извинился и просил подождать. Через некоторое время заседание кончилось, и некоторые из «совета» подошли к нам. Я сообщил в чем дело. Все были удивлены: думали, что расстреливают по решению Чрезвычайной Комиссии только бандитов, а это все считают неизбежным. Третьего дня опять вырезали семью: еврея[23 - Пропуск у В. Г. Короленко.]…..его жену и дочь. При этом принесли с собой водку и, зарезав еврея, кутили и насиловали жену и дочь, которых зарезали после изнасилования. Это продолжалось до 6-ти час. утра. Уже засветло ушли спокойнейшим образом и не разысканы.
Можно бы возразить, что и бандитов следует судить и что тут важна не гроза бессудности, а то, чтобы усилить борьбу с ней. Пока чрезвычайка озабочена старьем, бывшими генералами, как Бураго, и расстреливанием Шкурупиевых землеробов, обезоруженный обыватель отдан на жертву разбойникам. Но против смертной казни таких зверей – даже я не возражаю, раз они пойманы, что бывает редко. Но все удивлены, когда мы сообщаем, что расстреливают уже политических… Все возмущены. Со мной подробно разговаривает Швагер, комиссар финансов и член «совета». Он обещает мне, что лично берет на себя это дело, и часа через 2–3 приезжает ко мне, чтобы сообщить, что более казней без суда не будет[24 - На полях дневника карандашом рукою В. Г. Короленко написано: «После этого казней без суда было без числа, особенно после смены Алексеева».]. Исполком, по-видимому, после записки Кр‹асного› Креста, а может, и самостоятельно, – одумался. Теперь предоставляются элементарные гарантии правосудия и защиты.
11 апреля
[25 - В подлиннике ошибочно указано «9 апреля».]
Дня три к нам зачастили с реквизицией комнат. До сих пор нас оставляли в покое. Нужно ли связывать эти реквизиционные попытки с телеграммой Раковскому о расстрелах без суда – не знаю и не уверен, но… Загаров, председатель жилищной комиссии, по-прежнему против реквизиции у меня, а какие-то второстепенные агенты – все приходят, меряют шагами комнаты и т. д. Один прямо заявил, что реквизирует 2 комнаты, в том числе мой рабочий кабинет (тут же и спальня). Я рассердился и сказал, что не дам рабочего кабинета, хотя бы его пришлось защищать. Он сразу смягчился и стал говорить, что все еще, может, обойдется и, может, моя жена приедет ранее, чем реквизируют…
Особенно интересный реквизитор-претендент явился затем вчера. Он заявил, что, едучи в Полтаву, он мечтал получить «аудиенцию» у писателя Короленко. И вот теперь такое счастие!.. Он будет жить у писателя Короленко. Соня и Наташа заявляют, что на днях (после взятия Одессы 6 числа) мы ждем Авд‹отью› Сем‹еновну›, мою жену, а их мать, и еще одну жилицу, жившую у нас до отъезда в Крым, где они обе застряли, и что таким образом квартира уплотнению не подлежит.
– Беги скорей в комиссию, – говорит спутник моего своеобразного почитателя. Тот уходит и скоро является с ордером и вещами. Соня берет ордер, идет к Загарову и возвращается с бумагой: ордер отменяется. Мой почитатель приходит, узнает об этом, лицо его меняется.
– Это вы взяли на себя ответственность? – спрашивает он злобно.
– Ответственность взял тот, кто отменил ордер.
– Ну, это мы еще посмотрим. Вам придется иметь дело с учреждением. (На этом слове натиск. По-видимому, учреждение – чрезвычайка.) Уходит взбешенный.
Интересно, что фамилия этого «товарища»… Дунайский! Так же звали убийцу бедняги Ластовченка, являвшегося после вместе с Швиденком, таинственным персонажем, о котором приходилось и читать и писать в газетах. Они появлялись при разных переменах, Швиденко был уличен, арестован, бежал и все-таки опять появлялся. А за ним, на заднем плане появлялась зловещая фигура Дунайского. Теперь, по-видимому, под эгидой чрезвычайки эта мрачная фигура пытается проникнуть в мою квартиру…
А Одесса, очевидно, взята. Большевизм укрепляется. Теперь это в военном отношении самая сильная партия, и России, очевидно, суждено пережить внутренний кризис под флагом большевистского правительства. Оно есть существующий факт. Теперь ему противустоит только какой-то загадочный для меня сибирский Колчак, бывший адмирал; что противупоставляет он заманчивым для масс лозунгам большевизма – я не знаю. Знаю пока, что он расстрелял несколько меньшевиков, в том числе бывшего нашего сотрудника по «Р‹усскому› богатству» – Майского
.
13 апреля
С утра пришли 4 женщины из Васильцовской волости. Матери и жены арестованных чрезвычайкой хлеборобов с Ковжижеских хуторов (8 человек, из них 7 Яценков и один Панченко). Прошли бедняги 40 верст пешком. Старушка горько плачет: сыновья пропали где-то без вести: один пропал давно, другой был в плену. Теперь старика отца тоже взяли и держат. 2-х Яценков отпустили, когда было доказано, что они только что вернулись из плена. Начинаются полевые работы. Семьям грозит нищета… И едва ли мы можем помочь. Арестованы просто каким-то красноармейским дивизионом. Так составлено и постановление: «Мы, красноармейцы 1-го кавалерийского дивизиона, постановили арестовать таких-то…» Было это больше двух месяцев назад.