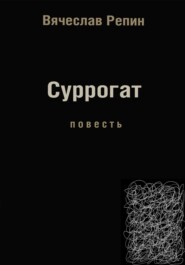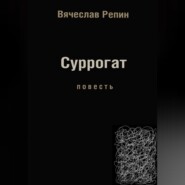По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хам и хамелеоны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Главная улица тянулась унылая, вымершая. Лишь в северной части поселка теплились едва заметные признаки жизни. Вдоль обочины трусила дворняга. На движение по дороге военной техники пес не обращал внимания – привык за много лет. Перед заборами некоторых полуразрушенных хибар взгляд приковывали неподвижные силуэты старух. Безразличные ко всему на свете, они стояли или сидели на невесть как уцелевших лавках – одетые в темное нищенское тряпье, морщинистые, с натруженными руками и потухшими глазами. Как им удавалось ютиться на этом пепелище? Чем кормились они с этой выжженной земли, как перебивались, откуда брали силы, чтобы отстраиваться заново? На что все они надеялись?
Колонна свернула на узкую грунтовую трассу. Туман рассеялся, и теперь можно было двигаться быстрее. Однако кативший сразу за машиной Рябцева «урал», в котором сидел Бурбеза, полз в гору еле-еле, оставляя позади шлейф копоти. Задняя часть колонны вдруг отделилась, как хвост у пойманной ящерицы. Пришлось придержать головные машины.
Чтобы не лезть в эфир с чепухой, капитан толкнул свою дверцу, свесился из кабины, погрозил кулаком водителю коптившего «урала», сопроводив выразительный жест парой фраз и давая Бурбезе понять, чем обернется халатность по возвращении на базу. На опасном участке колонна шла черепашьим шагом!
После хилой одинокой сторожовки, где дорога повела к спуску, а справа замельтешили прозрачные пролески, открылся вид на горы. Кряжи подпирали небо, казалось, совсем рядом. Но близость гор была мнимой. Давал знать о себе «эффект воздушной линзы», иногда ощутимый даже в предгорье.
Темп движения мало-помалу выровнялся. Машины сбрасывали скорость только перед воронками, которых попадалось великое множество. Именно здесь, слева на взгорке, откуда начинался необследованный участок дороги, и предстояло задержаться на обратном пути.
До Улус-Керта уже было рукой подать. Для осмотра обочин Рябцев намеревался отправить группу через несколько минут, как только колонна выйдет на подъем за селом. Этот квадрат был ему хорошо знаком по карте, но следить за сменой ландшафта становилось всё труднее. От одного вида непривычных глазу красот перехватывало дух. По левую сторону в бездонной котловине шириной километра в три оседало сизоватое месиво клубящегося тумана. А из-за горных склонов, разраставшихся впереди, на уровне среднего взгорья, и опоясанных бязью бледных облаков, пробивалось чистое, выполосканное ветрами бледно-голубое небо. День обещал быть ясным и теплым…
Гречихин спросил, можно ли закурить. Капитан кивнул. Открывавший дорогу БТР потянул вправо, обогнул глубокую воронку и поддал газу.
– Держи строй, не отставай, – сказал Рябцев.
– Так точно!.. Чтобы вот так раздолбать дорогу, из чего же надо вести огонь? – посетовал сержант, и его добродушная деревенская физиономия обрела вдруг несвойственное ей свирепое выражение.
– Стодвадцатимиллиметровые мины рвались… не дай бог, – задумчиво проронил Рябцев. – Свежую насыпь впереди видишь? Метров двадцать… Слева ее обогнул БТР… – скороговоркой заговорил Рябцев. – Да это же… Это башка чья-то! Тормози!
Не успел сержант дать по тормозам, как Рябцев схватил тангенту и во всё горло закричал в эфир:
– Всем из машин! Занять оборону!
В следующий миг ватная, необъятная и ослепительная масса сдавила воздух, а затем раскроила его на куски. Из расступившейся тишины податливо потянуло ровным отдаленным гулом, который пронизывал всё окрест и словно звал куда-то за собой.
Лишь через какое-то время со дна оголившегося пространства, всё еще переполненного чем-то гулким, до слуха стали доходить пощелкивающие звуки, которые чередовались с новыми подталкивающими в спину ударами. Ровный грохот врывался в сознание снизу и сверху – отовсюду. Воздух рвался не снаружи, а, казалось, изнутри…
Когда Рябцев понял, что происходит, то в двух шагах от себя он увидел пылающий тент «урала» и черно-красную физиономию здоровяка Геннадия с вытекшими глазами. Ноги сержанта зажало между сиденьем и рычагами, тело свисало из правой дверцы горящей кабины, с той стороны, где должен был сидеть сам Рябцев.
Странным образом капитан увидел себя откуда-то сбоку. Вот он стоит на коленях, облитый какой-то горячей липкой жижей. Вот он озирается по сторонам… А затем, когда заметил, что левый рукав бушлата и плечо его потемнели от крови, до него дошло, что треск, грохот и свист долетают не откуда-то издали, как чудилось только что. Всё рвалось на куски рядом, вокруг.
Никакой колонны слева не было. Вдоль обочины стояла стена огня. Головной БТР, успевший проскочить вперед, завалился боком в кювет, из-под его правого борта струился смолистый черный дым.
Кто-то потянул Рябцева за ногу. Сапер Суриков, тоже с черной физиономией, сверкая белыми, как вареные яйца, белками глаз, ошалело открывал и закрывал рот. Рябцев не понимал его или не слышал.
– Пригнись, капитан! Пригнись! – вдруг долетел до его слуха крик сапера. – Лупят с той стороны, из-за дороги. Пригни голову!
Увидев автомат, валявшийся в метре слева, Рябцев потянулся к прикладу, но потерял равновесие и упал. Во рту появился сладковатый привкус. Руки не слушались. Сквозь фиолетовый туман, застилавший глаза, капитан отчетливо видел и, главное, слышал, как Суриков поливает из автомата, сопровождая пальбу дикими душераздирающими криками. В лицо капитана летели раскаленные гильзы.
Бушлат на спине у Сурикова обгорел. Правая стопа была неестественно вывернута, из грязных ушей сочилась кровь, но он, казалось, ничего не замечал. Что-то твердое и огромное тем временем било по земле то слева, то справа. И вдруг всё стихло. Пространство стало мягким и податливым. Окружающий мир, в том его измерении, где кричали и стреляли и где всё, что могло гореть, горело адским огнем, куда-то исчез, растворившись в оглушающей тишине…
Плавно тающий и на одной бесконечной ноте зависающий в невесомости звук камертона Рябцев как бы видел воочию. Это было первое, что сознание впитывало в себя, будто первые капли воды с ложечки, как только он почувствовал, что всплывает на поверхность со дна самого себя, и как только понял, что начинает распознавать контуры нового незнакомого мира, – эти контуры всё еще были частью бесформенного какого-то рваного месива, но уже уверенно проступали над муторной пустотой парящего небытия…
Уже неделю оконные стекла украшались изнутри изморозью: палаты отапливались с горем пополам. Медперсонал отчаянно и безрезультатно ругался с руководством госпиталя, отказываясь смириться с тем, что чуть теплые батареи не прогревают до минимальной температуры даже палаты тяжелораненых.
Грань между тяжелыми и обычными ранеными была очень расплывчатой – все здесь находились в достаточно тяжелом состоянии. И нередко случалось так, что еще вчера ни на что не реагировавший больной – ни на звуки, ни даже на собственное имя, и по самые уши обмотанный бинтами, опутанный дренажными трубками, а то и с подвешенными конечностями, вдруг появлялся ни с того ни с сего в коридоре, да еще и сам управлял коляской, причем не скрючивался в ней беспомощным калекой, а восседал, как на троне, будучи не в состоянии скрыть недоумения: нереальное царство здравствующих людей слишком походило на сон.
На суетную атмосферу госпиталя выздоравливающие взирали с опаской, словно боясь обмануться. Для них всё как по щучьему велению вернулось на круги своя, и перед глазами снова громоздился тот самый мир, с которым так мучительно не хотелось расставаться, но пришлось – слава богу, лишь на время. Удивление и недоверие к окружающему постепенно вытеснялось обыденностью будней: вместе с жизнью возобновилась боль, ночные кошмары, страх перед будущим – от этого на лицах многих застыла гримаса недовольства. Но жизнь брала свое: хотелось всего и сразу – больничной каши, внимания медсестер, обещанной отправки вглубь России, в госпиталь родной части, поближе к дому.
И, словно пытаясь доказать себе самим, что домой вернутся не уродами-нахлебниками, все эти изувеченные горемыки с расшатанными нервами стучали костылями по дощатому полу, направляясь в «предбанник», к наспех залепленному кирпичами простенку, который разделял госпитальные корпуса. На лестничном пролете устраивалось молчаливое состязание: кто больше наглотается свистевшего в форточку ледяного ветра, который разгонял по углам вонь хлорки, пока она не успела въесться в стены, проникнуть в легкие, под одежду, в каждую щель; кто вместит в свое нутро как можно больше разъедавшего гортань дыма, будучи не в состоянии насытиться ядовитым армейским куревом.
Инвалидом был каждый второй. Степень тяжести увечий не зависела ни от толщины повязок, ни от того, сколько перенесено повторных операций, ни от количества ампутированных конечностей. Определить, кто есть кто, проще было по выражению глаз. Молодые калеки – кто однорукий, кто одноногий, кто с оскалом страха и ненависти, которые навеки отпечатывались на физиономиях, – взгляды окружающих ловили на себе с настороженностью и иногда становились похожи не на больных и не на солдат, а на подопытных зверьков, вдруг притихших в предчувствии фатального перелома в их судьбе. В конце концов, никто здесь не собирался отвечать на главный вопрос, мучивший всех поголовно: что будет дальше?
Рябцев не знал, сколько еще ему предстоит промаяться на больничной койке. Чувство неопределенности усугублялось очень неприятной внутренней дезориентацией во времени. Внутри всё словно было перерыто, как на вспаханном поле, но в мыслях, чувствах и даже в памяти он при этом ощущал вполне стойкий пространственный порядок. Лишь когда пытался думать о каких-то конкретных вещах, мысли наталкивались на стену.
Провалы в памяти вызывали острое ощущение пустоты под ногами. Голову переполняла мешанина раскромсанных в борозды мыслей, а в воображение беспрестанно врывались необычные, наплывающие друг на друга картины каких-то необжитых земель. То это были головокружительные просторы, они распахивались перед глазами Рябцева как бы с высоты птичьего полета, словно он парил над землей. То вдруг он видел сверху загородные домики с цветущими садами, и его охватывало острое, скорее приятное, ощущение необычности чужого домашнего уюта. В чужой уют мучительно не хотелось вторгаться без приглашения, незваный гость хуже татарина, но очень тянуло… Все эти картины погружали Рябцева в состояние, близкое к тяжелой сонливости, которое охватывает иногда после нескольких бессонных ночей. Он понимал, что из этого омута нужно вырваться, но пока все усилия оказывались тщетными.
Судя по разграфленному температурному листку, висевшему на планшетке в изголовье кровати, на котором медсестра с нерусским именем Гуля каждое утро подрисовывала ручкой тонкую кривую, не прошло еще недели, с тех пор, как он попал сюда. Срок короткий. Рябцев ежился от удовольствия, осознавая, что самостоятельно пришел к этому заключению. Чувство реальности, пусть и ненадолго обретаемое, создавало некий ориентир. Правда, чаще ему приходилось грести вслепую через призрачное пространство.
Иногда капитану чудилось, что он видит сквозь стены. Ему удавалось разглядывать с кровати соседнюю палату и операционную с двумя большими бестеневыми лампами на потолке. Поддавалась созерцанию даже требуха, вынутая из утробы бесчувственного оперируемого страдальца. Внутренности выглядели как на картинке. Всё, что окружало Рябцева наяву, наоборот, странным образом уплывало в сторону, заваливаясь набок и съезжая вниз, наподобие плотной тяжелой ткани, которой застелили слишком скользкую покатую поверхность.
Обоим его соседям по палате досталось безмерно. Прапорщик из комендантской роты был ранен и обожжен при обстреле машины в грозненском Черноречье. А молоденький лейтенант из-под Великих Лук, нарвавшийся, как Рябцев слышал, на «растяжку», лишился ног и половины лица. В госпитале у него началась гангрена, и даже врачи удивлялись, как ему удавалось выкарабкиваться. Правда, от окончательных прогнозов они пока воздерживались. С головы до ног обмотанный бинтами, лейтенантик лежал на койке, будто приготовленная к погребению забальзамированная мумия.
В палате стояла ровная тишина, изредка нарушаемая чьей-нибудь болтовней в коридоре да появлением медперсонала. Обстановка чем-то напоминала школьную тех минут, когда уроки заканчивались и в пустеющих коридорах раздавались лишь голоса уборщиц или задержавшихся учителей. Но тем уютнее бывало дремать под колючим шерстяным одеялом, особенно после обеда, когда солнечное тепло вливалось через окно в сумрак палаты, перетекало с тумбочки на пол и начинало сначала тихонько, а потом всё сильнее греть правый бок – то место, где ныло чаще всего; а затем, накалив металлический поручень над головой, ласково перемещалось к кровати безногого лейтенанта. На бесчувственном лице калеки что-то шевелилось. Парень начинал постанывать. Рябцев был уверен, что стонет тот не от боли, а от блаженства, просто не может воспроизвести ничего, кроме стона, своими поврежденными голосовыми связками.
Периодически появлялась медсестра. Она открывала форточку и проветривала палату. В фиолетовую серость вновь мрачневшего помещения вместе с морозным воздухом врывались завораживающие звуки улицы: там стучали, кричали, где-то вдалеке тарахтел какой-то моторчик. Гуля поочередно подходила к больным, прикасалась к каждому прохладными пальцами, от которых пахло нашатырным спиртом и йодом, и каждому просовывала под одеяло термометр.
Обменяться с медсестрой парой слов – даже это требовало усилий. Язык не слушался. Поэтому Рябцев предпочитал молчать и слушать то, что говорит она, поддерживая разговор мимикой и стараясь растянуть удовольствие от общения.
С того дня, как Рябцев почувствовал себя способным изъясняться членораздельно, мысли или слова, в которые он их облекал, казались скомканными, их приходилось расправлять, как оберточную бумагу. Фразы растягивались и получались совсем не такими, какими он их выстраивал в голове. Но синеглазая, темноволосая ингушка Гуля, к огромному его удивлению, понимала даже то, чего он не мог произнести. По выражению глаз она угадывала, кто хочет пить, кому надо оправиться, кого пора перевернуть на другой бок, а кому просто нужно услышать собственный голос.
Медсестра уверяла Рябцева, что его состояние удовлетворительное. Еще пара дней – и способность мыслить связно восстановится. Контузия была средней тяжести. А ранение в плечо, хоть и серьезное, – не смертельное. Осколок ему достался крупный, «с полкружки», но и тут повезло – кость не была задета. И хотя мышечная ткань срастается не так быстро, как у других, прийти в себя он должен был еще до отправки в Петербург, в свой госпиталь.
От слова «повезло» у Рябцева в голове словно колокольчики звенели. Кому повезло? Только ему? Где все остальные из его колонны? Разве в рейд на рассвете отправились не два отделения? И это не считая инженерной группы и прикрытия. Вместе с шестью мотострелками, которых командир подсадил до блокпоста, получалось тридцать три души. Тридцать три… Само число отдавало какой-то мистикой. Трояки впивались в душу, выворачивали ее наизнанку. Мысли путались. Они врывались в голову со всех сторон, но почему-то не могли уцепиться за пространство, в котором возникали. И от этого зависали в пустоте, будто мыльные пузыри. Чувство вакуума вдруг опять становилось невыносимым.
В голове по инерции раскручивалась последовательность событий. Благодаря этому числу – тридцать три – капитан припоминал обрывки разговоров с подполковником из войсковой контрразведки, который зашел к нему в палату, очевидно сразу же, как только он стал вменяемым, а уже после визита подполковника в памяти всплывали разговоры еще с какими-то задумчивыми офицерами, от которых пахло сеновалом и кирзой, – кто они были, он не помнил…
Первый БТР в колонне сгорел сразу. Экипаж из огня не выбрался. Кроме сержанта-контрактника Гречихина, заживо спекшегося в «урале», погиб один из шести мотострелков. Остальным удалось выбраться и уйти из-под обстрела в сторону Улус-Керта. Но восемь человек получили ранения, одно тяжелее другого. Троих же – опять мистическая цифра! – вообще не досчитались. Были основания предполагать, что эти трое попали в плен. По словам подполковника, расследование велось полным ходом…
В среду 1 ноября Рябцева навестил замкомандира. Майор Голованов был послан в бригаду за пополнением, застрял в Моздоке в ожидании свободного места на борту и первым делом отправился навестить всех, кого мог. С бесцветным и осунувшимся лицом, словно чумазый от многодневной щетины, майор принес в палату вонь выхлопных газов. Голованов изучал капитана немного недоуменным взглядом, на дне которого Рябцев не мог не видеть жалости к себе и, как ему казалось, упрека.
Капитан попытался приподняться. Но левую половину тела сковала мучительная боль.
– Ты крещеный? – спросил майор.
На покрытом испариной лице капитана мелькнула тень растерянности. Он не ответил.
– В рубашке ты родился… – сказал Голованов, скользнув взглядом по соседним койкам, на которых в неестественных для живых людей позах притихли двое незнакомых ему калек. И умолк.
– Мне говорили… Кажется… Не помню точно… – выдавил из себя Рябцев, – что половина наших… Что с ними?
– На днях еще двоих потеряли… Вялых из второй роты. Да ты помнишь его… И Загородников, водитель… Фугас. На той же трассе, – ненатурально равнодушным тоном сообщил майор. – На обочине бетонный столб лежал, а в нем фугас направленного действия. Изобретатели!
– Чем в нас… Че-ем стреляли? – помолчав, спросил Рябцев. – На дороге…
– В вас? Шмелями… Да всем подряд. Огонь открыли бешеный. Засаду устроили грамотно. Первую и последнюю машину накрыли. Радист твой, Журавлев, успел помощь запросить. Вертолеты вылетели. Но туман висел плотный слишком… Видимости – ноль. Бурбеза, молодчина, сообразил, что выводить народ нужно оврагом. Другого пути там и не было. Задний БТР дымил. Они им прикрылись. Вылезли за дорогу и двинули на Улус-Керт. Если б не он, всех бы вас по одному, как кроликов… – Замкомандира тяжело вздохнул и опять замолчал.
– Нас было… Тридцать три человека, – выдавил из себя Рябцев. – Другие… что другие?