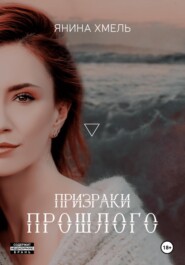По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма из-под виселицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не спит?
– Рисует.
– Остальные в порядке?
– Никто не буянил. Сегодня все спокойные. Даже двадцать пятая утихомирилась.
– Славно.
– А ты не выспался, – Инна покачала головой.
– Не смог уснуть, – пожал плечами я.
– Нашёл, что искал?
– И да, и нет.
Инна погладила меня по плечу и ушла к посту.
А я зашёл в палату номер 13, пропустив восьмую.
Тая, как всегда, сидела на своём подоконнике. Но сегодня не в той позе, в которой я застал её прошлой ночью: она сидела на коленках, склонившись над листом бумаги, и что-то вырисовывала подушечками пальцев. Рядом стояла палитра с гуашью и стакан с водой.
– Доброй ночи, Тая, – я стоял с приоткрытой дверью, ожидая её одобрения, чтобы войти.
Она кивнула, и я подошёл к ней ближе.
– Ты сегодня вдохновлена?
Она замерла и подняла на меня глаза.
– Лето… – Тихо ответила Тая и продолжила рисовать.
Первого июня ровно шесть лет назад девочку перевели в психлечебницу. Все надежды на то, что для неё удастся найти приёмную семью, иссякли: самый ходовой возраст усыновления от новорожденных до четырёх лет, а Тае уже было почти семь, да и деток-аутистов редко берут в семьи, а если берут, то всё равно потом отдают в психлечебницы. А Тае даже не посчастливилось почувствовать на себе семейный уют, любовь и заботу родителей хотя бы на некоторое время. В детском доме, в который она была определена после роддома, к ней относились по-доброму и заботились о ней, как умели. Но и до того замкнутая, она замкнулась в себе ещё больше, когда её перевели в лечебницу.
Тая очень болезненно отреагировала на перемены вокруг себя. Всё чаще не спала ночами, притаившись на подоконнике и уставившись в небо. Именно в таком положении я впервые застал её: только я заметил ещё одну деталь и поинтересовался о ней, что и стало моим ключом к её замкнутости. До меня её силой пытались уложить спать по ночам, что приводило к истерикам и слезам. Когда в её мир заходили без её позволения и пытались вывести её на свежий воздух, тоже силой, она реагировала резко и вспыльчиво: могла долго плакать, забившись под кровать, или укусить медсестру за руку. Только Инна с самого Таиного пребывания здесь смогла найти подход к ней: она считала её особенной и принимала такой, какой она была, с капризами и странностями, не укладывала её спать силой, оставляла свет в её палате включённым, приносила ей бумагу и краски и разговаривала с ней, не надеясь на её ответы. Тая никогда не отталкивала Инну, а иногда даже улыбалась ей и позволяла себя обнять. Но только мне Тая дарила свои рисунки.
Она рисовала не каждую ночь, но вдохновение посещало её часто. Тая могла рисовать две ночи подряд один и тот же рисунок, а утром протянуть его мне, без объяснений. Она редко говорила. Ещё реже покидала свой подоконник. И никогда не шла на контакт с другими пациентами, когда её выводили на общие прогулки.
О её родной матери в лечебнице не было информации. Сама Тая её даже не помнила и не понимала, что значило слово «мама». Когда его произносили при ней, она даже бровью не поведёт, как будто это было иностранное слово, значение которого ей было неинтересно. Девочка реагировала на своё имя, но только в одной форме: все уменьшительно-ласкательные формы она игнорировала. Тая. Особенная девочка. Мне бы очень хотелось, чтобы однажды она поговорила со мной, рассказала, что у неё на душе, поделилась тем, что у неё в голове.
А пока она протянула мне свой рисунок и взяла своё левое запястье, испачкав его жёлто-красными красками.
– Это лето? – Улыбнулся я, рассматривая его.
– Это весна, – она показала на красные тона.
Я кивнул. В её рисунке лето перемешивалось с весной. Сегодня первое июня. Быть может, именно это сейчас происходило с природой?..
– Тебе нужно умыться, – я медленно коснулся её щеки, вытирая краску.
– Инна придёт, – ответила мне она.
Я понял, что мне пора оставить её наедине со звёздами, которыми она уже была увлечена. Я обернулся около двери: издалека она казалась мальчиком, я иногда сравнивал её с Маленьким Принцем Экзюпери в том образе, котором он представлялся мне. Коротко подстриженные пшеничного цвета локоны Таи всегда были взъерошены в разные стороны: она сама причёсывала их, никому не позволяла трогать голову. Это был жест недоверия. Недоверчивые люди никогда никому не позволяют прикоснуться к своим волосам. Я тоже не доверял никому.
Я вышел из палаты номер 13 и вернулся к палате номер 8, которую пропустил. София и в эту ночь встретила меня сонными посапываниями.
Это было странно и непривычно, если вспомнить наше первое знакомство с ней.
– Сволочь! – София зарядила мне звонкую пощёчину, как только я переступил порог её палаты.
– И вам доброй ночи, София. – Но я всё равно выражал спокойствие, как внутренне, так и внешне. Меня было сложно удивить – уже давно «варился» в мире психиатрии, разбираясь в душах своих пациентов.
– Я – Софа! – Вторая пощёчина обрушилась на одну и ту же щеку.
С этого момента я запомнил, что называть её Софией чревато последствиями.
– Приятно познакомиться. Я твой доктор. – Я растёр вспыхнувшую щеку и натянуто улыбнулся.
– Катись ты к чёрту! Видеть тебя не желаю! – София присела на край кровати и закрыла лицо ладонями. Её грудь то поднималась взволнованно вверх, то вовсе замирала, как будто её хозяйка забывала дышать.
Я присел рядом с ней.
– Надеюсь получить ответ. По какой причине я впал в немилость, не успев ничего сделать? Мне, правда, интересно.
– Я всех мужчин ненавижу! Вам от нас, женщин, нужен только секс. Вы не обращаете внимания на наши души.
– Я тебя очень удивлю, но именно твоей душой заинтересован. И это чистая правда! – Уверил её я, улыбнувшись искреннее, чем в первый раз.
– И ты не хочешь сейчас же воспользоваться моим телом? – Она убрала ладони от лица и посмотрела на меня, прищурившись. Дыхание её замерло. Она провела языком по губам, продолжая наблюдать за моей реакцией.
– Не хочу.
Дальше она резко прильнула этими влажными губами к моим и поцеловала меня. Даже я, имевший за своими плечами богатый опыт общения с душевнобольными, был застигнут врасплох, что случалось крайне редко в моей практике. Я не отпрянул, но и не ответил на её поцелуй. Она отпрянула сама.
– Верю, – фыркнула в ответ София. – Доброй ночи.
– Я зайду с утра. Надеюсь на более тёплый приём.
София ничего не ответила. С неделю она убеждалась в искренности моих слов и чистоте намерений. Убедившись, что я не желаю воспользоваться её телом, а меня интересует только её душа, София открыла мне её, радуясь, что кому-то она была интересна. Хоть она и находилась в лечебнице с диагнозом «истерическое расстройство личности», мне было легко с ней: она не ставила преград в нашем общении, можно сказать, помогала мне помочь себе.
Уже вторую ночь она мирно спала – и это было достижением. Когда я только перевёлся, София неделю страдала бессонницей, сокрушая свою палату: она била вазы с цветами, швыряя ими в медсестёр, а санитаров мужского пола вовсе не подпускала к себе. У неё часто случались срывы, и даже я был вынужден согласиться, что она нуждалась в крайних мерах, чтобы пресечь эти срывы. Но, на самом деле, этих срывов легко можно избежать, если позволить Софии делать то, что ей нравится.
Она любила играть на рояле, который стоял в общей комнате. Она любила, когда её игру слушали. Я добился того, чтобы ей позволили играть, хоть и принял на себя слишком много для новичка. Но главное, что мне всё удалось свести истерические срывы Софии почти на нет. Теперь истерики у неё случались редко.
В палате номер 17 меня ждал Плотон. Он не спал. Ждал меня и лекарство от душевной боли.
– Доброй ночи, Плотон, – я сжал в кулаке флакон со снотворным.