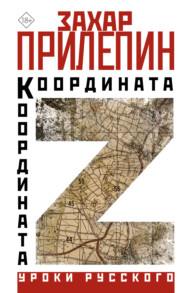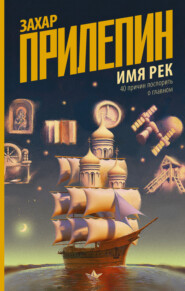По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Восьмерка (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А вот скажи, – поинтересовался Буц, и тон у него был такой, что сидевший впереди сначала застыл на секунду, а потом вернулся в исходное положенье, – …отчего вы в форме такие страшные… а без формы – я тебя даже разглядеть не могу?
Ответ мне придумывать не пришлось, потому что к машине спешно подошел какой-то тип. Сидевший впереди сразу выскочил на улицу, уступив этому типу место.
– Здравствуй, Буц, – сказал тип, усевшись. Голос типа звучал, словно он набил рот газетой, прожевал ее, но не выплюнул и не проглотил, а так и сидел с этим мерзотным и кислым жевком у щеки.
Тип обернулся к нам. Губы его были отвратительны и огромны.
«Может, капот случайно упал на лицо», – пошутил я сам для себя.
Кто это так ему зарядил, интересно. Лыков, поди.
– Посмотри на мальчика, – сказал Буц.
Тип посмотрел на меня. Глаз у него тоже почти не наблюдалось – то ли и тут Лыков постарался, то ли от рождения такая беда, – ковырнули раз под бычьей бровкой гвоздиком, ковырнули под другой, и ходи, парень. Главное, не щурься, а то упадешь в темноте.
– Этого не было, – сказал тип, широко раскрывая губы: «Этаа не ыло!»
– Очкарик сказал, что он вас один уделал, – сказал Буц.
– Я уже говорил, что очкарик гонит, – промычал тип: «…а уже аарил шта ачарык онит!» Было заметно, что он хочет повысить голос и возмутиться – но раздавленные губы не позволяли.
Тип, скривившись, отвернулся. Похоже, у него и шея очень болела.
– Ну что, – сказал мне Буц. – Иди тогда, работай дальше, лови своих пьяниц… повезло тебе. Не зря я тебе утром велел помолиться. Бог – он и правда помогает. Даже таким, как ты.
Я не без удовольствия открыл дверь и вылез на белый свет.
Тот, что уступил переднее сиденье типу с разбитыми губами, задумчиво курил, стоя у меня на пути.
Он был среднего роста, худощав, но, сразу видно, ловкий, хлесткий, быстрый. Несколько секунд смотрел мне в глаза с чуть заметной ухмылкой. Потом затянулся и выдул мне в лицо дым, некрасиво скривив губы.
Я шагнул в сторону и сказал:
– Попадешься мне – я тебе болт в лоб вкручу.
– Ну вот – попался, – ответил он, раскрыв руки.
– Болт в гараже, – ответил я. – Прихвачу – вкручу. Подожди денек.
Он засмеялся и стрельнул мне вслед бычком, попал куда-то в локоть, я сделал вид, что не заметил.
Братик и сестренка Шороха безмолвно рисовали карандашами, сидя на полу. Чистой бумаги у них не было, поэтому они пристраивали свои каляки-маляки по краям газетного листа.
Сам Шорох примостился на подоконнике. Грех стоял у дверей, проверяя, как работает новая щеколда. Лыков лежал на полу, с интересом разглядывая детские картинки. Потом взял красные и синие карандаши и разрисовал большое опухшее лицо первого президента.
– Сегодня застроим эту коблу, – резюмировал Лыков мой рассказ, выводя кровавый синяк.
Я только избежал упоминания о Гланьке. И про сигаретный бычок не упомянул: почему-то не хотелось. На локте образовалась маленькая дырочка – я все время, выгнув руку, поглядывал на нее, и на душе моей было гадко.
Так и носил эту гадость внутри до самого вечера.
Вечером мы загрузились в лыковскую «восьмерку» и, купив по дороге в ларьке одну пачку сигарет на четверых, подлетели к «Джоги».
– Есть их тачки, на которых тебя катали, глянь? – попросил меня Грех.
– Может, Буц на другой приедет, у него ж не одна, поди, – засомневался я, озираясь.
– Я знаю, на чем он ездит, – сказал Шорох. – На одной и той же. И номер знаю. Тачка иногда уезжает, пока он в кабаке сидит, – и потом возвращается за ним. Пойду гляну – может, он уже в клубе.
На стоянку к «Джоги» стремительно и бесшумно, как водомерки, подъезжали все новые сияющие иномарки. Наша белая утлая лодчонка смотрелась тут скромновато.
Мы были по гражданке – собственно, вопрос идти в форме или нет, даже не обсуждался. Если ты в форме – на тебя никто руку не поднимет, это ясно. Ну и что за разборки тогда?
Выйдя из «Джоги», Шорох развел руками: нету Буца, мол. Но тут же мимо клуба стремительно прокатила буцевская холеная красавица. И я ее узнал – и Шорох тоже, опустив руки, с улыбкой проследил путь авто до того места на стоянке, которое странным образом никто не занимал.
Вышел Буц, с ним двое его ребят, одного я узнал – это его бычок попортил мою единственную весеннюю курточку, красивую, как у Буратино.
Гланьки не было – почему-то ее появления я пугался больше всего.
Мы разобрали еще по сигаретке из пачки и закурили.
Я все время трогал пальцем правой руки дырку на локте – это поддерживало мою злобу в ровном кипении.
– В клубе будем разговаривать? – спросил Грех, жуя бычок.
– Не, в клубе разнимут сразу, – ответил Лыков спокойно, как будто не про себя говорил – это ж его будут разнимать, – а про кого-то третьего.
– Надо его выманить как-то, – сказал Грех, вынув бычок и осмотрев покусанный-перекусанный фильтр.
Буцевская машина, постояв у клуба три минуты, вздрогнула и, ловко вырулив со своего места, отбыла.
– А вот так и выманим, – сказал Лыков, что-то придумав.
Он завел «восьмерку», и через минуту мы стояли на буцевском месте.
Курившие на ступенях клуба малолетки начали пихать друг друга и кивать в нашу сторону: гляньте на полудурков. Кто-то из них сразу поспешил в клуб.
– Стуканут сейчас, – посмеялся Лыков. – А я уж думал, до утра придется ждать, пока Буц домой не захочет…
Действительно, через три минуты появился тот самый, которому был обещан болт во лбу. Он поздоровался кое с кем из малолеток на ступеньках – всякий из них с очевидной гордостью вытягивал свою белую ладонь… кто-то в толпе малолеток заметно дрогнул плечом, шевельнул кистью, тоже желая поздороваться, но рукопожатием удостоили не всех.
Буцевский спустился к нашей «восьмерке». Я, сидевший сзади в правом углу, вжался в кресло, чтоб меня не запасли раньше времени.
Лыков натянул капюшон на башку – была вероятность, что и его признают, – мы светились несколько раз, устраивая по мановению начальства в клубах облавы. Впрочем, в последнее время ни облав, ни зачисток по воровским хатам отчего-то не проводилось вовсе.
Буцевский, не нагибаясь, стукнул в стекло печаткой на пальце. Печатка изображала птичью голову с загнутым клювом.
Лыков приоткрыл окошко.