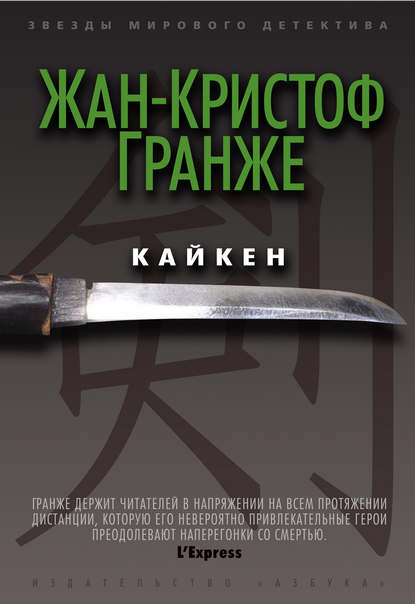По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кайкен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В небольшое паломничество.
32
До приюта Жюля Геда Пассан рассчитывал добраться за полчаса. Всю дорогу он размышлял. Зачем понадобилось это новое расследование? Он ведь даже не уверен в том, что прошлой ночью в его дом проник именно Гийар, и уж тем более в том, что сведения о его происхождении помогут доказать вину.
Но Пассану необходимо было двигаться, говорить, действовать. Все лучше, чем сидеть взаперти в кабинете.
Он позвонил в школу, где учились его сыновья, – все в порядке. Позвонил Гае, их бебиситтер, – как обычно, она зайдет за ними в половине пятого. Позвонил Паскалю Жаффре и Жан-Марку Лестрейду, парням из своей команды, согласившимся с шести часов вечера вести наблюдение за его домом. Он вернется туда, чтобы провести с мальчиками абсолютно нормальный вечер. И это будет труднее всего.
Миновав Порт-де-Баньоле, он поехал по авеню Гамбетта в сторону улицы Флореаль. Улицы все больше сужались, словно сдавливая его грудную клетку. Неужели он так волнуется? Сейчас не время поддаваться эмоциям.
Он припарковался под платанами, обрамлявшими улицу. С самого полудня ярко светило солнце, наконец-то было похоже на настоящий июнь. На асфальте трепетали тени от деревьев, слепящие лучи пробивались сквозь листву. Он чуял лето в дрожании воздуха, запахе жженой резины, в щебете птиц, перебивавшем шум машин. Звоня в ворота центра, Пассан сбросил шкуру задерганного полицейского: сейчас им скорее владела странная печаль.
Железная дверь с щелчком отворилась. Никто его не встречал. Он прошел через парк. Все здесь было не таким, как в его воспоминаниях. Лужайки, строения, аллеи теперь выглядели маленькими и жалкими. Когда он был ребенком, эти газоны казались ему равнинами, а кирпичные блоки – крепостными стенами. Сейчас перед ним предстали трехэтажные домики, окруженные палисадниками не больше муниципальных сквериков.
Он шел по аллее и, как ребенок, старался не наступать на тени каштанов. В его время в Геде жило до шестисот воспитанников, потом стало меньше. Теперь их здесь не больше сотни, раскиданных по яслям, начальной школе, коллежу и лицею. А специальность все та же – каторжные судьбы.
В семидесятых годах центр прозвали «воровской школой». Ребятишки группами ездили по третьей ветке метро Пон-де-Левалуа – Гальени, охотясь за бумажниками. Стайка воробышков с ловкими руками. В каком-то смысле эти вылазки стали для него подготовительным классом полицейской школы. Конец этой игре положил несчастный случай. На платформе одной из станций Дидо-цыган никак не хотел выпускать дамскую сумочку, за которую крепко держалась ее владелица. Ручка оторвалась, когда подъехал поезд. Мальчишка выжил лишь потому, что его тело и голова в длину оказались чуть меньше ста сорока сантиметров – расстояния между рельсами. Однако ноги ему отрезало.
Войдя в холл первого здания, Пассан окунулся в прохладу и полумрак. На полу – шахматный узор из плиток. Натертые лестницы, тишина, пропахшая дезинфекцией. Он был в административном корпусе, некогда означавшем неприятности и наказания. Вокруг ни души. Пассан постучался в несколько дверей, наконец отыскал какую-то секретаршу.
– Могу я поговорить с Моникой Лами?
– По какому вопросу?
– Я бывший воспитанник. – Он показал букет пионов, купленный по дороге.
Женщина без всякого энтузиазма сняла трубку.
Моника, военная хитрость. Воспитательница с незапамятных времен и его единственная связь с прошлым. За прошедшие тридцать лет они виделись всего два раза. В 1993 году она не поленилась приехать на церемонию выпуска в Высшей школе полиции, а спустя десять лет заходила на набережную Орфевр, чтобы поговорить о парнишке из коллежа, которого привлекли за квалифицированную кражу и нанесение увечий. В память о добром старом времени Пассан сделал необходимое. Вот и все. Не считая того, что каждый год на День матери он посылал ей цветы.
На лестнице послышались шаги. Он поднял голову. Моника была из тех, над кем время не властно. Хипповый вариант «Мами нова»[18 - «Мами нова» – торговая марка йогуртов, творожков, сладких десертов.] – пестрое платье, сапожки, седой пучок, – она и в молодости смахивала на этикетку с банки варенья. Ее низкий голос звучал как открытая струна, спокойно и полнокровно, но повадки противоречили этому ровному тембру – резкие, порывистые, даже грубоватые.
Пассан преподнес ей пионы и в нескольких словах объяснил причину визита. Он предпочел бы обойтись без душевных излияний.
– Ты пришел сюда как полицейский? – улыбнулась она, смачивая лепестки.
– Имя тебе о чем-нибудь говорит? – Он улыбнулся в ответ.
– Патрик? Да, конечно.
– Ты его помнишь?
– Я всех вас помню.
Ему претило подобное обобщение, но в этом Моника напоминала Христа: все они были ее детьми. Она передала букет секретарше и повела его в сад. Они уселись на скамью под сенью листьев, колыхавшихся на теплом ветру. По ту сторону зданий послышался гул голосов: дети выходили после занятий.
– У него неприятности?
– Прости, Моника, даже тебе я ничего не могу рассказать.
Она снова улыбнулась. Пассану пришел на ум речной камешек, отполированный ледяными разливами и горячими летними лучами. Она вынула пачку сигаретного табака. И снова он вспомнил этот запах нагретого солнцем сена. «Самсон».
– Патрик провел здесь два года, – начала она, закуривая самокрутку. – Кажется, с восемьдесят четвертого. Ему плохо пришлось. Он не приживался.
– Из-за своего отклонения?
– Так ты знаешь?
– Это указано в досье, – ответил Пассан уклончиво.
– Пока он был здесь, его прооперировали, – продолжала она, пару раз затянувшись и подняв голову. – Он отсутствовал около двух месяцев.
– Что за операция?
– Понятия не имею. Врачи в больнице Неккера не из болтливых.
Пассану представился скальпель, кромсающий мошонку, щипцы, вырывающие яичники.
– А мыться ему не помогали?
– Ему было около двенадцати лет. Он никого к себе не подпускал.
– Но он был мальчиком?
– Скажем, это был его гражданский пол. – Моника неопределенно махнула рукой.
– Как-как?
– Ужасное слово, которым обозначают пол, зафиксированный при рождении ребенка. По выбору врачей, актов гражданского состояния, воспитателей. Потом следует придерживаться намеченной линии.
– А кем он был от природы, как по-твоему?
– Все-таки мальчиком. Много занимался спортом. Всегда держался особняком. Его лечили тестостероном. Мускулы развивались, но…
– Но?
– В его движениях, голосе, повадках проскальзывало что-то женственное. Другие мальчишки издевались над ним. Обзывали педрилой.
– Каким он был? Я имею в виду, в повседневной жизни?
– Недоверчивый, агрессивный. Несколько раз громил столовую. Нередко эти припадки случались после инъекций тестостерона. Другие ребята его травили. У него не было ни одного друга, никакой опоры. Лучше всего он себя чувствовал, когда о нем забывали.
– Вы ничего не могли поделать?
– Нельзя же не спускать с детей глаз двадцать четыре часа в сутки. А для изгоя не бывает передышки.
– Ты можешь вспомнить, как именно над ним издевались?
32
До приюта Жюля Геда Пассан рассчитывал добраться за полчаса. Всю дорогу он размышлял. Зачем понадобилось это новое расследование? Он ведь даже не уверен в том, что прошлой ночью в его дом проник именно Гийар, и уж тем более в том, что сведения о его происхождении помогут доказать вину.
Но Пассану необходимо было двигаться, говорить, действовать. Все лучше, чем сидеть взаперти в кабинете.
Он позвонил в школу, где учились его сыновья, – все в порядке. Позвонил Гае, их бебиситтер, – как обычно, она зайдет за ними в половине пятого. Позвонил Паскалю Жаффре и Жан-Марку Лестрейду, парням из своей команды, согласившимся с шести часов вечера вести наблюдение за его домом. Он вернется туда, чтобы провести с мальчиками абсолютно нормальный вечер. И это будет труднее всего.
Миновав Порт-де-Баньоле, он поехал по авеню Гамбетта в сторону улицы Флореаль. Улицы все больше сужались, словно сдавливая его грудную клетку. Неужели он так волнуется? Сейчас не время поддаваться эмоциям.
Он припарковался под платанами, обрамлявшими улицу. С самого полудня ярко светило солнце, наконец-то было похоже на настоящий июнь. На асфальте трепетали тени от деревьев, слепящие лучи пробивались сквозь листву. Он чуял лето в дрожании воздуха, запахе жженой резины, в щебете птиц, перебивавшем шум машин. Звоня в ворота центра, Пассан сбросил шкуру задерганного полицейского: сейчас им скорее владела странная печаль.
Железная дверь с щелчком отворилась. Никто его не встречал. Он прошел через парк. Все здесь было не таким, как в его воспоминаниях. Лужайки, строения, аллеи теперь выглядели маленькими и жалкими. Когда он был ребенком, эти газоны казались ему равнинами, а кирпичные блоки – крепостными стенами. Сейчас перед ним предстали трехэтажные домики, окруженные палисадниками не больше муниципальных сквериков.
Он шел по аллее и, как ребенок, старался не наступать на тени каштанов. В его время в Геде жило до шестисот воспитанников, потом стало меньше. Теперь их здесь не больше сотни, раскиданных по яслям, начальной школе, коллежу и лицею. А специальность все та же – каторжные судьбы.
В семидесятых годах центр прозвали «воровской школой». Ребятишки группами ездили по третьей ветке метро Пон-де-Левалуа – Гальени, охотясь за бумажниками. Стайка воробышков с ловкими руками. В каком-то смысле эти вылазки стали для него подготовительным классом полицейской школы. Конец этой игре положил несчастный случай. На платформе одной из станций Дидо-цыган никак не хотел выпускать дамскую сумочку, за которую крепко держалась ее владелица. Ручка оторвалась, когда подъехал поезд. Мальчишка выжил лишь потому, что его тело и голова в длину оказались чуть меньше ста сорока сантиметров – расстояния между рельсами. Однако ноги ему отрезало.
Войдя в холл первого здания, Пассан окунулся в прохладу и полумрак. На полу – шахматный узор из плиток. Натертые лестницы, тишина, пропахшая дезинфекцией. Он был в административном корпусе, некогда означавшем неприятности и наказания. Вокруг ни души. Пассан постучался в несколько дверей, наконец отыскал какую-то секретаршу.
– Могу я поговорить с Моникой Лами?
– По какому вопросу?
– Я бывший воспитанник. – Он показал букет пионов, купленный по дороге.
Женщина без всякого энтузиазма сняла трубку.
Моника, военная хитрость. Воспитательница с незапамятных времен и его единственная связь с прошлым. За прошедшие тридцать лет они виделись всего два раза. В 1993 году она не поленилась приехать на церемонию выпуска в Высшей школе полиции, а спустя десять лет заходила на набережную Орфевр, чтобы поговорить о парнишке из коллежа, которого привлекли за квалифицированную кражу и нанесение увечий. В память о добром старом времени Пассан сделал необходимое. Вот и все. Не считая того, что каждый год на День матери он посылал ей цветы.
На лестнице послышались шаги. Он поднял голову. Моника была из тех, над кем время не властно. Хипповый вариант «Мами нова»[18 - «Мами нова» – торговая марка йогуртов, творожков, сладких десертов.] – пестрое платье, сапожки, седой пучок, – она и в молодости смахивала на этикетку с банки варенья. Ее низкий голос звучал как открытая струна, спокойно и полнокровно, но повадки противоречили этому ровному тембру – резкие, порывистые, даже грубоватые.
Пассан преподнес ей пионы и в нескольких словах объяснил причину визита. Он предпочел бы обойтись без душевных излияний.
– Ты пришел сюда как полицейский? – улыбнулась она, смачивая лепестки.
– Имя тебе о чем-нибудь говорит? – Он улыбнулся в ответ.
– Патрик? Да, конечно.
– Ты его помнишь?
– Я всех вас помню.
Ему претило подобное обобщение, но в этом Моника напоминала Христа: все они были ее детьми. Она передала букет секретарше и повела его в сад. Они уселись на скамью под сенью листьев, колыхавшихся на теплом ветру. По ту сторону зданий послышался гул голосов: дети выходили после занятий.
– У него неприятности?
– Прости, Моника, даже тебе я ничего не могу рассказать.
Она снова улыбнулась. Пассану пришел на ум речной камешек, отполированный ледяными разливами и горячими летними лучами. Она вынула пачку сигаретного табака. И снова он вспомнил этот запах нагретого солнцем сена. «Самсон».
– Патрик провел здесь два года, – начала она, закуривая самокрутку. – Кажется, с восемьдесят четвертого. Ему плохо пришлось. Он не приживался.
– Из-за своего отклонения?
– Так ты знаешь?
– Это указано в досье, – ответил Пассан уклончиво.
– Пока он был здесь, его прооперировали, – продолжала она, пару раз затянувшись и подняв голову. – Он отсутствовал около двух месяцев.
– Что за операция?
– Понятия не имею. Врачи в больнице Неккера не из болтливых.
Пассану представился скальпель, кромсающий мошонку, щипцы, вырывающие яичники.
– А мыться ему не помогали?
– Ему было около двенадцати лет. Он никого к себе не подпускал.
– Но он был мальчиком?
– Скажем, это был его гражданский пол. – Моника неопределенно махнула рукой.
– Как-как?
– Ужасное слово, которым обозначают пол, зафиксированный при рождении ребенка. По выбору врачей, актов гражданского состояния, воспитателей. Потом следует придерживаться намеченной линии.
– А кем он был от природы, как по-твоему?
– Все-таки мальчиком. Много занимался спортом. Всегда держался особняком. Его лечили тестостероном. Мускулы развивались, но…
– Но?
– В его движениях, голосе, повадках проскальзывало что-то женственное. Другие мальчишки издевались над ним. Обзывали педрилой.
– Каким он был? Я имею в виду, в повседневной жизни?
– Недоверчивый, агрессивный. Несколько раз громил столовую. Нередко эти припадки случались после инъекций тестостерона. Другие ребята его травили. У него не было ни одного друга, никакой опоры. Лучше всего он себя чувствовал, когда о нем забывали.
– Вы ничего не могли поделать?
– Нельзя же не спускать с детей глаз двадцать четыре часа в сутки. А для изгоя не бывает передышки.
– Ты можешь вспомнить, как именно над ним издевались?