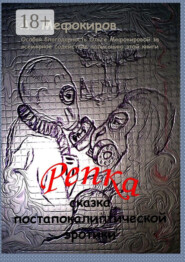По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Советник царя Гороха (сборник произведений)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В четвертой поездке ситуация была целиком противоположная. Теперь нам пришлось тем же способом провозить чернокожего каддафиста через мигрирующие посты Переходного Совета. Каддафист был ранен в ногу, и сквозь запыленную повязку проступала кровь.
Правда, здесь ситуация была поспокойнее, так как в кузов ни при одной проверке никто не лазил: просто проверили документы, а один из революционеров уговаривал нас (наверное, минут тридцать, не меньше) купить у него автомат «всего за 200 долларов», и предлагал целых четыре запасных рожка к нему. Двести долларов за китайский юзаный «Калаш» – может это и не слишком много, не знаю. Просто в нашем случае, – вопреки бессмертным словам Абдуллы из «Белого солнца пустыни»: «Кинжал хорош для того, у кого он есть»,– обладание оружием сослужило бы нам плохую службу. С автоматом в кабине мы выглядели бы в высшей степени подозрительно, а против отряда, вооруженного несколькими ДШК – это «пукалка», которой мы бы даже не успели воспользоваться.
Третий случай произошел с нами, прошу прощение за каламбур, в третьей поездке. Вся поездка происходила в высшей степени спокойно, мы отвезли груз в Аль-Зинтан, быстро разгрузились около местного футбольного стадиона с довольно ухоженным газоном (не часто, кстати, увидишь такое в городках посреди Сахары), и, любуясь бесчисленными руинами бывшей крепости, поехали назад. Но не успели мы толком выехать за пределы Аль-Зинтана, как нас остановил патруль революционеров. Ну, ничего, дело то обычное. Мы вышли из кабины, Жека что-то сказал Халиду. Смотрю, как то один из революционеров насторожился, а потом что-то принялся горячо доказывать своим товарищам, они все подняли гвалт, словно стая разъяренных гусей. Ничего не понимая, поворачиваюсь к Халиду и вижу, что он весь подбледнел и как-то сник. Глянув на меня затравленным взглядом, Халид произнес: «They say, that you are Russian mercenaries of Kaddafi. It seems for them, that you speak with Russian accent! They propose to kill us immediately…» Говорил он это сначала возбужденно, а затем все мрачнее и мрачнее, казалось, что у него просто батарейки садятся.
В моем мозге сразу возникло нехорошее русское слово, созвучное названию полярной лисы. Сам не ожидая от себя такого, я заорал:
– Schei?e! Ich und mein Freund sind aus Deutschland! Aus Deutschland, verstehen Sie mich? Wenn Sie jetzt schie?en, haben Sie viele ernste Problemen mit Bundesregierung!
Вышло у меня все спонтанно, но довольно внушительно. Мне прямо самому понравилось. Произношение и голос были точь в точь как у Тила Линдемана, солиста «Rammstein». Повезло, и похоже «Rammstein» слышали даже в Ливии. Спасибо вам, ребята-рокеры из Германии – вы сделали большое дело!
Галдящие революционеры несколько растерялись. Халид, как он мне потом сам в этом признался, на арабском подтвердил, что мы никакие не русские, а самые настоящие немцы… Революционеры недоверчиво отшатнулись, а потом протянули назад документы. Еще более нам повезло, что никому из них не пришло в голову посмотреть наши паспорта или водительские права. Вот тогда всплыла бы наша «файна юкрайна» и как минимум, пришлось бы сидеть в ливийской тюрьме (и это по очень оптимистическим расчетам). Увы, особых надежд на нашу родную дипломатию, не подкрепленную, в отличие от той же американской, барражирующими авианосцами, не было.
Надо сказать, что нас, русских и украинцев, в Ливии недолюбливают. Точнее, не слишком уважают, особенно после революции. Революционеры-повстанцы не любят за то, что мы вроде бы оказывали поддержку режиму Каддафи; каддафисты недолюбливают за то, что мы не оказывали им должную поддержку. Но на самом деле ситуация объясняется довольно просто.
Исламская ментальность такова, что уважения заслуживает лишь сильный: по крайней мере такой, что не спускает обид и не смиряется с выливаемыми на него ушатами грязи. В отличие от нашей культуры, выросшей из христианского смирения и изрядно «облагороженной» западными ценностями, в исламском мире не принято спускать обид. И при этом, если у нас придерживаются принципа «хоть горшком назови, только в печку не ставь» ( в другом, не менее популярном варианте фигурирует представитель нетрадиционной сексуальной ориентации и специфическая поза), то для мусульманина это абсолютно неприемлемо. Тот, кто смиряется с собственным унижением – хуже собаки.
Есть у нас, у славян еще одна дурная привычка, которая кощунственна для мусульман: это привычка за границей восхищаться всем увиденным и хаять собственную Родину. Для мусульманина его дом, каким бы он ни был – святыня; лить грязь на свою Родину, на свой «большой дом» – это святотатство. Тот, кто так делает, презираем… Наших же хлебом не корми, дай позлословить и обгадить «рiдну неньку».
Четвертый случай связан с тем, как мы попали под минометный обстрел. В той же самой, злополучной, второй поездке, мы, выгрузив наших тайных пассажиров возле Гарьяна, решили слегка отдохнуть от пережитого стресса на обратном пути. Мы остановили машину на обочине возле развилки Гарьянской дороги (а это широкое такое шоссе на четыре полосы), где со стороны Гарьяна левый поворот на Мизду, а по правую сторону какой-то местный супермаркет вроде нашего «Аверса» с местами для парковки. Супермаркет, как нам показалось, даже работал. Мы спокойно оставили возле него наш грузовичок и пошли к двери. Подойдя, мы к своему неудовольствию убедились, что он закрыт. Но стоило нам повернуться назад и что тут началось! Словами не описать… Но все же попробую.
Сначала раздалось два характерных хлопка, такое далекое-далекое «пух-пух», а затем… как рванет чуть позади стоянки… мы аж присели. Да что там присели, просто упали на задницы там, где стояли. Снова «пух-пух» – и снова короткий рёв, потом «большой бумсик»: тучи пыли, дым, пламя. И два спутника Марса в придачу: Фобос и Деймос, Страх и Ужас. В общем, не так уж ошибались римляне, называя своих богов и размещая их по небосклону.
Сказать, что было страшно – не скажу. Страшно было, когда мы провозили повстанцев через кордоны каддафистов и наоборот. Здесь же было нечто не страшное, а шокирующее. Другого слова я не подберу. Именно шокирующее, только не в том смысле, в котором сейчас употребляется это слово в прессе и Интернете, вроде: «Шокирующие подробности! Голая Наташа Королева оказалась одетой!». Нет, шокирующее именно в том значении, что вызывает шок, как особое состояние человеческой психики.
В ушах стоял такой звон и грохот, что казалось, будто взрываются не мины в паре десятков метров от нас, а сам мир изнутри. Уши заслоняло, и меня чуть не вырвало от этого тяжелого ощущения. Казалось, что через уши с каждым новым взрывом в мозг проталкивается порция тяжелой ртути, а голова готова разорваться, словно переспелый арбуз. Мы забились за угол здания супермаркета, и лежали ничком, пока обстрел не затих. Примерно еще минут пятнадцать после того, как обстрел прекратился, мы просто лежали и дрожали, словно испуганные щенки. Потом медленно поднялись и пошли к машине, готовясь увидеть пылающий металлолом. Но, как не парадоксально, наш «Фиат» был практически абсолютно цел, – если не считать небольшой трещины на лобовом стекле и пары отверстий от осколков на задних дверях будки. Мы завелись и кое-как поехали… немножко рывками и рыская, потому как ноги, так и руки дрожали, словно козий хвостик. Успокоится, более или менее, удалось только уже подъезжая к границе.
Вторая наша поездка была такой, что после нее загнать нас в Ливию мог только один фактор: если мы нарушим контракт, то нам бы аннулировали наши билеты домой. Вот так-то. Мягко и улыбчиво наши наниматели поставили нас в такое положение, что нам некуда было от них деваться. Домой же хотелось жутко.
Дом в подобных условиях вообще романтизируется. О нем вспоминаешь каждую секунду, как о недоступном рае на земле. Полностью согласен с Евгением Гришковцом, который в своей репризе «Как я съел собаку» говорил: «Жили с постоянно звучащим в голове «хочу домой», «хочу домой». Вот как поезд стучит колесами. «Хочу домой, хочу домой, хочу домой…».
Помимо поездок в Ливию нашему «фиату» все так же приходилось работать и по вилайету Татавин. Распорядок был такой: поезка через границу – два дня работы по месту – снова поездка через границу. Выходных нам никто не давал. То есть, их можно было взять, но по контракту все равно нужно было отработать определенное количество дней. Хочешь – хоть неделями отдыхай за свои деньги – никто не запрещает. Мало кто из наших коллег брал выходные – всем хотелось побыстрее уехать оттуда. Да и вообще, что за радость в том выходном – сидеть на базе и бездельничать? А бездельничание в нашем случае – это гораздо хуже, чем работа.
Когда занят работой, катаешь по пыльным дорогам – намного легче. Но стоит остаться в «томной неге безделия», и начинают лезть разные дурные мысли, сводящие с ума. И кажется, что из внутренней «тюрьмы собственного разума» вырваться невозможно. То нападают приступы непонятной паники, то наоборот, как-то все становится безразличным, и чувствуешь, что теряешь всякую осторожность.
Дурные мысли прилипают к праздному человеку, словно пыль к колесам машины. Навязчивыми жирными мухами они кружат над вами, не давая отдохнуть. Каждая мелочь, каждая незначительная деталь раздувается в размерах до неузнаваемости, искажая представления о действительности.
О губительности праздности и безделия в тяжелой обстановке я знаю с тех пор, как в юношестве пережил «любви ужасное крушенье». Такое переживают миллионы людей разного возраста, а уж молодые да влюбленные – им это вообще свойственно. И не будем лицемерить – это очень больно и тяжело.
Знаете что… «А не спеть ли нам песню, о любви?»
И да простит меня всякий читающий эти кропания, но я вновь уйду от описания своих ливийских приключений, чтобы теперь поговорить о любви. Да –да, именно о ней. Почему? Не знаю, просто там, в пустыне около Дахибы нередко думалось об этом, точно так же, как о Боге, о жизни и смерти, о вере и от многих других простых и одновременно бесконечно сложных вещах. Когда возвращаешься после рейса на базу, смываешь с себя горьковато-соленой водой пыль и после душа выходишь в ночную пустыню с небесами из черного хрусталя; когда напряжение разжимает постепенно свои острые когти, именно тогда всплывают откуда-то из глубин бесконечности подобные мысли.
Что есть любовь? Каковы ее обличия? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но не имею любви – то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, но не имею любви – то я ничто…Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». – так говорил апостол Павел. «Вроде того быть или не быть, я хотел бы знать как – вот в чем вопрос, как бы мне бы тебя не убить, не любить, как – вот где ответ, вот как битва покажет где боль, на рану как соль, сука-любовь…» – пели Михей и Джуманджи.
В тысячах произведений искусства, от подлинных откровений до песен-однодневок воспевают страдания неразделенной любви, жгучую боль тупой ревности, колючий холод одиночества, особо ощущаемый на пепелище от горевшего костра.
Когда-то в одном из своих недописанных и неотправленных писем я написал: «Мне кажется, что из всего, что знает человек, более всего трепетная любовь напоминает ядерный реактор. Подобно ядерной реакции, сила любви происходит из внутренней сущности вещей, из законов, стоящих в самой основе мироздания. И мы так же мало знаем о природе полей слабого и сильного взаимодействия, игра которых разогревает ТВЭЛы наших реакторов, как мало мы знаем о любви. Мы просто знаем, что они есть, и немного знакомы с их свойствами.
Ядерный реактор, умело управляемый и стабильный, приправленный изрядной долей везения, дает огромное, просто фантастическое количество тепла и света; любовь, в которой все складывается благополучно, совершает то же самое, заставляя обретать крылья. Но если что-то пойдет не так, если его перегреть или неумело заглушить, реактор превращается в безжалостного убийцу, превращающего все вокруг себя в зараженную радиоактивностью пустыню. И обожженная, искалеченная душа бродит по этой фонящей пустыне, страдая от все нарастающей дозы облучения от угасающих осколков былой страсти. Все фонит: фотографии, былые подарки, воспоминания… Невидимо эта радиация проникает в самое сердце, и приносит столько боли, что невольно все сознание начинают населять безобразные мысли-мутанты, которых все сложнее и сложнее победить…». Тогда я так и не дописал это письмо и естественно, не отправил, хотя садился писать и переписывать его много, много раз. Да и глупо было отправлять его… Что я хотел сказать своими научно-техническими метафорами девушке, которая меня больше не любит? Что мне без нее плохо? И что? Банальность.
Теперь я бы уже не писал бы такого письма вовсе. Во всяком случае заменил бы слово «любовь» на «страсть». Сейчас я глубоко убежден, что несчастной любви не бывает – бывает губительная страсть, тем не менее, в эмоциональном плане это тектоническая сила, способная возрождать и уничтожать человека и его душу. И моя настоящая любовь началась не до, а куда позже разрыва романтической, страстной нити в отношениях.
Как обычно происходит? Мужчина и женщина, влекомые друг к другу страстью, клянутся в вечной любви. Они готовы целовать следы в пыли от ног любимого, с нетерпением ждут каждой мимолетной или наоборот, страстной и сводящей с ума ласки или объятия. И горделиво, с наслаждением говорят: «Ты – моё!».
А потом все резко меняется, и между ними ложится грязная, низкая, полная дрязг и мелких разборок вражда. И они с презрением говорят: «Моя бывшая (бывший)». Люди, недавно делившие одно ложе и целовавшие друг друга куда ни попадя, становятся смертными врагами, ненавидящими друг друга, готовыми вцепиться друг другу в глотки за оспариваемое общее имущество в виде китайской пластиковой посуды. Они делят детей, которым их страсть дала жизнь, и истерично кричат своим чадам: «Люби только меня, потому, что твой папа (твоя мама) – завалящий кусок дерьма! Называй папой (мамой) вот этого чужого дядю (тётю), потому, что я знаю, что для тебя лучше…». И ребенок смотрит огромными наивными глазами, и как бы спрашивает: «Папа (мама), но если моя мама (папа) – тупая стерва (дерьмовый козел), то почему ты тогда признавался ей (ему) в любви, почему ты целовал и обнимал её (его)? Почему я родился от этого зловонного зоопарка, как ты говоришь? Как ты это допустил (допустила)? И если ты говоришь, что любишь меня, то может и я тоже тупая стерва или дерьмовый козел? Ведь судя по твоим рассказам, ты у меня извращенец (извращенка) и имеешь слабость к тупым стервам и дерьмовым козлам…».
И тогда я спрашиваю себя: а была ли любовь, о которой столько кричали? Бог смотрит на все происходящее глазами отца и глазами ребенка: и какую любовь Он видит между людьми? Видит весь этот поток мерзости.
Вся наша культура буквально напитана страстью, несчастную любовь воспели и воспевают (и будут воспевать) как авторы шедевров, так и производители песен-однодневок. Её подают в красивой коробочке с золотистыми ленточками, и многие, отведав ее ядовитой сладости, погибают, выбирая способ самоубийства в зависимости от личных предпочтений: от бросания под идущий поезд до медленной смерти от избыточного количества калорий. Как красиво!
Но что это за любовь? И любовь ли это?
Я сижу на остывающем мелком песке, сквозь полуопущенные веки проникает холодный лунный свет (кстати, Луна здесь действительно необычная, громадная, яркая и какая-то «металлическая»). Я всего час назад вернулся с войны (как глупо звучит), и через два дня опять поеду по ее дорогам. И сейчас зачем-то пытаюсь понять, что же такое любовь… Странно… Даже немного смешно. Зачем я сейчас думаю об этом?
В каждом из нас живет дух мятежного ангела, который искусил наших прародителей.
Ведь вкратце, что написано в Торе, Библии и Коране об истоках происходящего?
Когда Всевышний сотворил человека по образу своему и подобию, то человек имел душу ангела и бессмертную, постоянно возрождающуюся плоть. Был у Всевышнего так же любимый светоносный ангел, даже именовался он – «Светоносный». Кто помнит греческий? Как на этом языке будет звучать «Светоносный»? То-то же. Звучать оно будет довольно необычно для нас, потому как это имя, Люцифер, со светом мы никак уже не связываем, можно сказать, вовсе даже наоборот. В Коране его называют Иблисом. Мы привыкли звать Сатаной, лукавым.
Когда этот ангел увидел, что новому и любимому детищу Бога дано и от Духа, и от плоти, то он внутренне соблазнился и поднял мятеж. Это была гордыня и ревность. Та самая гордыня и ревность, то же самое исступленное стремление единолично обладать чье-то благостью, которую мы вкладываем в наше понимание земной любви, земной страсти. Гордыня и ревность, смешанные с чувством собственничества, всепоглощающая страсть, готовая убивать, а не созидать. Это была страсть, перерождающаяся в мерзость вражды точно так же, как то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они порывают друг с другом и становятся врагами. Или ревность любимого ребенка, с которого родители переключили внимание на младших братьев, и готового в своей исступленной жажде былой любви уничтожить и младших братьев, и отомстить со всей злобой неудовлетворенного сердца некогда любимым родителям.
И так Свет обратился во Тьму. И началось то, что мы знаем.
Что же сделал человек, Адам? Он не просто съел яблоко посреди сада. Это всего лишь символ искушения, не более. И вовсе не просто вступил в половые сношения с Евой, как думают некоторые эротоманы. Если внимательно почитать, последнее никто не запрещал.
Вопрос был куда проще, и куда серьезнее. Это был вопрос стороны, на которой он будет после мятежа, это был вопрос власти. И человек выбрал сторону Сатаны. Выбрал ревнующую, исступленную, порождающую вражду и реки крови страсть, а не настоящую, полноценную любовь, и разрывая себя в невозможности утолить истинную жажду, идет все на новые и новые преступления ради эфемерных попыток построения рая на землях изгнания своего.
Развратить же человека, показать его во всей его мерзости и потом уничтожить – для Иблиса нет ничего желаннее. Ведь так он как бы бесконечно и бесплодно доказывает Богу: «Ну посмотри на это! Посмотри, на кого ты меня променял!».
Я не знаю, откуда передо мной тогда возникали эти диковинные картины. Безмолвие ночной пустыни, пережитый страх, постепенно отпускавший меня – кто знает, что это порождало.
Люблю ли я до сих пор ту девушку, с которой мы расстались? Да. И там, в пустыне, я мог сказать это уверенно еще раз. После разрыва романтических отношений во мне тоже бушевал мятежный ангел. Он так же, как и с миллионами других, разжигал во мне вражду к предмету моей страсти, разжигал ревнующую злобу, и говорил: «Ты ненавидишь ее… Посмотри, как она тебя обидела, как она тебя унизила… Мужик ты или не мужик… Ну хоть скажи, какая она конченая тварь. Ну не другим, так хотя бы себе скажи…никто ведь не узнает». Но было и нечто другое, что жило во мне и сопротивлялось этому. И это другое как бы говорило: «Если я любил ее, если моим счастьем было вдыхать неповторимый нежный запах ее волос, пусть и столь недолго, если я готов был ради нее пожертвовать всем – как же я буду хулить и хаять, злобствовать и ненавидеть? Если я клялся в любви, то как буду вставать на путь вражды? И что же эта за любовь, если она не прощает обид? Что изменилось, кроме того, что она теперь не принадлежит мне? Да и может ли кто-либо кому-либо принадлежать? Разве она – вещь? Разве чудо ее существа, которым я восторгался – безделушка, которую можно спрятать в кармане?».
В то время более всего я боялся напиться, и в пьяному угаре дать мятежному ангелу вырваться на свободу. Кто бы остановил его? И кто бы рыдал над кровавыми следами его безумия? Мало-помалу, шаг за шагом я учился любить. И не так уж многого достиг на этом пути. «Я же слаб душою, телом тоже слаб, и страстей греховных я несчастный раб».
Пустыня, пустыня… Как порой интересно беседовать с тобой с глазу на глаз. Ты молчишь, и слушаешь… И вот я два часа назад вернулся к тебе с войны (как глупо звучит), и теперь иду спать. Утром я проснусь, и послушав намаз Халида, помолюсь и встречу рассвет. И начнется новый день. А потом еще. И мне хочется верить, что я улечу отсюда домой и больше никогда не приду к тебе, пустыня. А у меня дома, там, где золотые поля, голубые леса и красные терриконы, будет, дай Господи, еще много, очень много дней. Но ты, пустыня, будешь жить где-то в глубине моих воспоминаний, и спасибо тебе за это. Может быть, я захочу забыть обо всем, что со мной случилось. Захочу напиться водки и предать забвению всё: и страх, и гнев, и ненависть, и любовь, и все свои ошибки и разочарования. Но ты, пустыня, встанешь своими бесконечными просторами перед моими глазами, и напомнишь, что нельзя убежать от себя. Напомнишь, что нет короткой и удобной дороги в рай, и лишь в ад можно войти легко и быстро. Спасибо тебе, пустыня; хотя я не хочу тебя больше видеть.
Обратно
Наш контракт закончился, и тем утром мы уезжали из Дахибы домой. Все это время я мечтал об этом, как о манне небесной. Каждую секунду своего здесь пребывания: когда ложился спать, когда умывался и чистил зубы, когда колупался в капризничающем двигателе «Фиата» (ничего толком в этом не соображая), когда ехал по здешним гладким, хоть и пыльным, дорогам, каждое мгновение я мечтал оказаться в Горловке, вдохнуть ее пахнущий аммиаком и полынью воздух. Тем из моих знакомых, которые в Германии, Франции, США, этого, наверное, не понять. Они приезжают после чистых улиц и вежливых людей в наш родной город с серыми домами и разбитыми дорогами, и у них не возникает никакого чувства, кроме отвращения и расстройства. Это все равно, что вернуться в родной дом, который на время вашего отсутствия сдавали квартирантам-алкоголикам.
Но для меня все было иначе. После бесконечного напряжения, после страхов я возвращался в место, где нет исламских революционеров и темнокожих каддафистов, где по улицам не разъезжают пыльные «Тойоты» с установленными на них пулеметами, и где с неба не летит на тебя смертоносный град из мин. В своих мечтах родная Горловка рисовалась мне какой-то далекой-далекой, но в чем-то даже прекрасной. Я вспоминал наше небо, такое нежно-голубое, с легкими облачками, вовсе не такое, как в Дахибе; вспоминал запах полыни, золотистой пижмы, растущей над железной дорогой. И не было большего желания, нежели забыть все эти ливийские приключения, как страшный сон, и открыв глаза, проснутся дома.
Но когда настало утро нашего отъезда, я почему-то почувствовал грусть. Причем такую грусть, что хотелось крикнуть: «Все, я остаюсь…». Конечно, такое состояние было минутной слабостью, и если бы я так сделал, то уж точно себе бы не простил и горько бы каялся уже через пару минут.
Мы стояли с собранными сумками у приехавшего накануне белого «Спринтера», вместе с нами уезжало еще человек десять. По двору растерянно бродили те, кто прибыл вчера нам на смену. С нами рядом стоял Халид и его брат, который приехал его проведать. Мы молча стояли и смотрели себе под ноги. И лишь когда нас пригласили в микроавтобус, мы встретились взглядами и сдержанно кивнули друг другу на прощанье. Заурчал двигатель и мы выехали из двора. Мы ехали почти по той же дороге, что и каждый день проезжали на своем «Фиате», но теперь, с пассажирского сиденья «Спринтера», эта дорога казалась какой-то незнакомой. Вроде бы и здания те же, и каждая мелочь – но что-то по-другому. Даже пустыня казалась теперь другой.