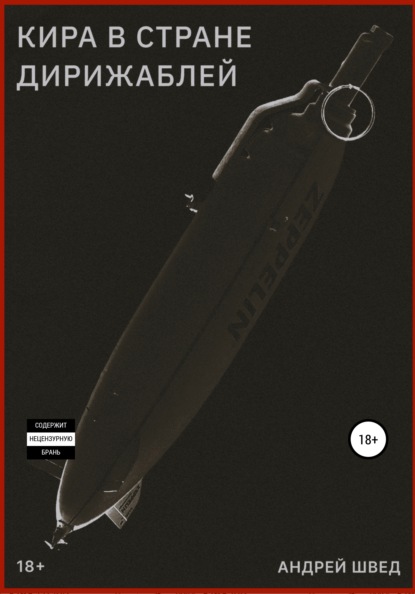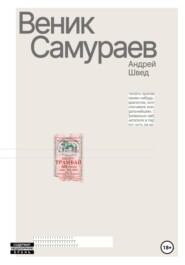По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кира в стране дирижаблей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…И ряженые вечеринки, и ночные попойки, и разговоры до утра, и прогулки к разводным мостам, и штраф за бутылку пива, выпитую прямо на улице, и пение до охрипшего горла и охреневших друзей. Она бы забывала приходить на пары и вовремя сдавать книги в библиотеку, и может, просроченный пропуск в итоге привел бы к тому, что некий однокурсник предложил прогуляться до кафе и выпить там кофе, и вот Кира уже слизывала бы пенку капучино со своей нижней губы и предлагала вместе пописать конспект, а потом – раз! – и она проснется в его постели. А Влад – так по-старомодному – вызовет его на дуэль и, возможно, погибнет…
Или может все сложилось бы еще хуже. И в один момент после очередного капустника, на котором были бы стихи и вино, она обнаружит себя в кровати с несколькими мужчинами, впрочем, одетыми, но при этом поймет сама для себя, что она уже совсем не маленькая. И на нетвердых ногах пройдет среди разбросанных вещей и недопитых бокалов на кухню, где нальет стакан воды из графина, чтобы победить похмельную сухость во рту. И потом будет рыться в аптечке подруги в поисках активированного угля или другой таблетки, которая поможет от отравления, ибо накануне он ела совсем другие таблетки – неизвестного назначения и содержания.
Однако все это, пожалуй, несколько драматичный сценарий, а ведь все может быть совсем иначе – вот она перебирает виниловые пластинки, а потом выбрав Led Zeppelin – их, и никого другого! – поедет к своим друзьям танцевать ночь напролет, чтобы затем в спешке переписывать домашнее задание на ступеньке мраморной лестницы факультета. И юбка ее задерется, и мальчишки-дураки будут идти и оглядываться на Киру. Мальчики нисколько не повзрослели со школы. И усвоив урок, Кира впредь будет писать конспекты сама, или даже не писать, а набирать текст на печатной машинке. Но в разгар сессии сорвется и все равно отправится на концерт вместо того, чтобы готовиться к очередному экзамену.
Не на тот концерт, в филармонию, куда дядя мог бы достать билеты на любую премьеру, а в те подпольные клубы, где мельтешит свет и пиво подают с димедролом, а гитарист вытворяет такие вещи с инструментом, что, кажется, его пальцы живут сами по себе, и толпа, раскачиваясь в пьяном полукруге, подчиняется музыкальному потоку, и тонет в нем, и задыхается, и брыкаясь сотней рук, шелестящих под аккомпанемент шаманского бубна, который в конечном счете оказывается не более чем барабаном, но всем плевать, кого это волнует, да и не разберёшь в этом сумраке, дыму и угаре…
Да! Университетская жизнь полная записок, книг забитых гербариями и свеч, воск которых затекает на темное дерево рабочего стола с кучей выдвижных ящичков, в которые набита всякая всячина: наброски рисунков, самопишущие перья, пленка фотоаппарата, засушенные стрекозы, ключики, зажигалки, шнурки, которые она в шутку стащила у Влада, когда он курил на балконе в квартире у общих друзей… Да и сама Кира попробует курить. Сначала мало, потом чаще, потом бросит, начнет снова во время сессии, но к четвертому курсу бросит окончательно. И в итоге у нее останется бесполезный мундштук – сентиментальное воспоминание о молодости.
Она бы носила серую шерстяную юбку в клетку и черный свитер, умело сочетая его с коричневым пальто, которое она под невежливый вопрос брата «Зачем оно тебе?», купит на барахолке у пожилой женщины с грустными глазами. Позже в этом же пальто она будет ездить на курсы фортепиано или, быть может, скрипки… Точно, скрипки! Она всегда хотела научиться на ней играть…
Но все же с коричневым пальто или без него, учеба в университете, куда она поступила благодаря дяди и Владу, который был для нее ориентиром и примером для подражания, по странной иронии жизни, в любом случае, привела бы ее к предательству брата. Осознавая невозможность их отношений, особенно тут, среди сверстников, которые так свободно любят друг друга, что целуются прямо на оконных рамах, что влечет за собой побелку ягодиц у сидящего, рано или поздно она поддалась бы искушению, и вот – все тот же некий однокурсник, позвавший пить кофе, на квартире которого они, сидя в кругу играют в бутылочку, наклонится к ней пьяным ртом, а она, не сдержавшись, поцелует его. Любой из путей ее университетской жизни привел бы к этому, ведь неизбежное – неизбежно.
Романтика, объятия, манка снежинок на меху, шепот, ровный почерк, рисунки, робкие касания, одолженное перо, вереск, кот на карнизе, домашние растения в горшках, значок на пиджаке, звезды, космос… – было… Все это было бы у нее. Но непременно, в конце она всегда оставалась бы без Влада.
Однако судьбе приспичило разыграть другой сценарий: грезы молодости, показавшиеся из-за ширмы университетских стен, в итоге окажутся блажью, мишурой, конфетти, разлетающимся под звонкий выстрел хлопушки… И Кире, быть может, никогда не суждено будет доучиться. Но пока все еще маячила миражом будущая студенческая жизнь – интеллигентская, богемная и праздная!
Конечно, была бы в этой жизни и учеба, которая, впрочем, не сильно отягощала кутеж буйной молодости. И хотя Кира выросла внимательной и усидчивой – такой, что хоть каждый вечер была готова просиживать в конусе желтого света перед очередным эссе до тех пор, пока шапка настольной лампы, не разогреется до такой степени, что начнет обжигать палец, прикоснувшийся к металлической поверхности, все же, верно читатель уже заметил это, девушка была легко увлекаемой, и даже имея перед собой цель, могла забыть о ней, переключаясь на что-то сиюминутное, но гораздо более привлекательное нежели далекий и благородный путь, которым ей хотелось пройти.
33
На первой в Кириной жизни лекции преподаватель сообщил, что журналистика – деятельность практичная и студенты зря пришли сюда просиживать штаны, и вообще лучше бы «шли работать по профессии», или не работать, а просто впитывать человеческие истории, учиться жизни: смотреть, чувствовать, трогать, слушать, нюхать, вдыхать!
Влад в это время сидел на своей лекции и не мог рассказать, говорили ли им то же самое в начале первого курса. А позже Кира забыла спросить.
Что же еще она поняла, проведя полтора часа в аудитории с открытыми нараспашку окнами?
Во-первых, журналистика – это опасно. Преподаватель рассказывал, как он был военным корреспондентом во время Мировой войны, и как под рукой не было ничего кроме фотоаппарата.
Во-вторых, в этом мире люди делятся на два типа: первые журналистов презирают и относятся к ним как к обслуживающему персоналу, вторые наоборот боготворят их и потому приносят в редакции свои истории из жизни городских сумасшедших с просьбой о них рассказать. По сути, проблемы «маленького человека». Журналист вынужден видеть тяжелые картины жизни бомжей, проституток, политзаключенных, пропускать их судьбы через себя, находиться в центре событий, даже если события – аварии, падения самолетов, убийства. В итоге, журналисты спиваются, выгорают и больше не могут работать.
И в-третьих, правда, до которой докапывается журналист, зачастую не стоит приложенных усилий. И потому нет ничего важнее и хуже правды.
– Приведу пример, – преподаватель назидательно поднял палец вверх. – Как-то раз я делал репортаж про одного еврея, который живет в нашем городе и который столкнулся с травлей и антисемитизмом. Казалось бы, позиция автора очевидна: в тексте необходимо защитить человека, в одиночку противостоящего толпе. Классический конфликт – человек против общества. Однако, когда я начал разбираться в истории, то понял, что еврей, очевидно, не зная о русских традициях общения, оскорбил свою соседку, беременную женщину. За которую в дальнейшем и заступились сожители. И кто в этой истории прав? Я честно, приступал к написанию текста с желанием помочь еврею, но в итоге не знал, чью сторону принять. Забавно, но работая журналистом, понимаешь, что вокруг, чаще всего неправы все вокруг тебя. Так как же поступить в такой ситуации?
Аудитория молчала, Кира краем глаза видела ошеломленные лица новоиспеченных однокурсников, сидящих рядом.
– Это я к тому, – подытожил «препод» (студенческий жаргон ломал язык даже высшего общества), – что, на самом деле, иногда лучше не знать правду. Понимаю, это звучит странно. Но смотрите: мой долг как журналиста нести в общество высокоморальные ценности, поэтому если бы я рассказал историю так, как она есть, часть читателей встала бы на сторону националистов. Правда разжигает ненависть. И это лишь один частный пример. На самом деле, почти в каждой истории вы встаете перед моральным выбором: рассказать жизненную историю падшей женщины, хотя и знаете, что это приведет к обличению ее личности перед обществом или же промолчать? Делать свою работу с места событий или помогать вытаскивать людей из-под обломков? Звонить родственникам погибших? Ехать в глухую деревню, чтобы рассказать, как там живут люди, но потом возвращаться в столицу? Снять на камеру старушечьи слезы, ради хорошего кадра, чтобы передать чувства героя на фотографии и потом получать престижные премии на фестивалях Европии или закрыть глаза, понимая трепет момента? Старушка имеет право плакать. Это мы, журналисты, наверное, не имеем права выставлять напоказ чужое горе, если это горе не хочет быть обнародовано. Но вот парадокс – мы все равно делаем это. Профессиональная деформация. Конфликт этики и профессионализма.
Этот нравственно-диллемический подход к журналистике был только одной гранью этой профессии.
Следующая лекция – занятие у Адольфа Геннадьевича Дракулы – предлагала другой взгляд на работу корреспондента. Но еще до пары Кира поняла, что мир, в котором она оказалась, это не только вселенная коротких юбок, интервью с киноактерами и возгласами «Эй, студенточка…» Это еще и что-то тяжелое, с чем будет очень трудно справиться, и с чем придется столкнуться совсем скоро…
Если каждый день журналисты рассказывают о катастрофах и войнах, значит они каждый день пропускают через себя горы трупов. И что в итоге? Или черствеют душой, или уходят из профессии, или становятся такими, как Дмитрий Крысилев, и начинают обслуживать власть. Пока что ни то, ни другое, ни третье Киру не устраивало.
– Вы еще не журналисты. Вы – в лучшем случае, жирноглисты! Наш курс называется «Основы творческой деятельности журналиста», и он-то и сделает из вас профессионалов. Но я провожу на нем только вводное занятие, а затем принимаю экзамен, – ледяной тон Дракулы-старшего разнесся по амфитеатру аудитории.
И стоило графу заговорить, как все посторонние мысли рассеялись. Началась вторая лекция.
– Вы находитесь в старейшей аудитории этого здания.
Эхо его голоса как бы вторило его словам, доказывая, что аудитория действительно старейшая.
Наклонные парты, стоящие полукругом, постепенно восходили к арочным окнам, также расположенным полукругом, сквозь окна проходили косые лучи света, что создавало впечатление таинства, будто внизу амфитеатра находился алтарь.
Кира завороженно рассматривала убранство аудитории, пока Дракула-старший называл все свои регалии.
– … кроме того, учил таких великих журналистов как Дмитрий Крысилев и… – доносился голос дяди. – … также вы научитесь писать разные тексты: начиная новостной заметкой и заканчивая полноценным журналистским расследованием. Но последнее ожидает вас на четвертом курсе, так что не будем забегать вперед.
«Будем. Я тебе такое расследование сделаю…» – думала Кира.
Понимание журналистики Дракулой-старшим было предельно простым и объяснялась двумя тезисами:
– Я пошел в ту профессию, суть которой сводится к превращению информации в деньги Формула «информация = деньги» – это наша алхимия. И все что нужно об этом знать: информация в деньги не превращается. Точнее превращается плохо. Владение информацией – это привилегия, но платить за нее люди не готовы. Но тем не менее, в итоге я стал министром информации, и стою сейчас перед вами. Почему же так? Вот вам ответ: я не работаю по профессии, и вам не советую.
Уже второй лектор отговаривал студентов становится журналистами.
– Однако! Второе, что нужно знать о журналистике: что военно-воздушные силы – ВВС и издание «ВВС», имея одну аббревиатуру на двоих, также и являются, по сути, одним и тем же – грозным оружием, способным уничтожать целые страны и народы. Думаю, в такой формулировке вы легко запомните идею профессии.
После пары они всей группой пошли в самое сердце «универа», то есть в бар через дорогу. Кира хотела еще попасть на лекцию Однабокова, однако преподаватель, утопленный шумом послелетних студентов, отменил пару. По словам Влада, у которого Однабоков все же провел занятие, на паре, посвященной русссскому сентиментализму, некто высказался достаточно эпатажно, но в целом семантически верно, выкрикнув на всю аудиторию свое мнение о том, что «Эраст – педераст», после чего бедный лектор и распустил студентов восвояси.
Тем не менее, Кира примерно знала, о чем бы Однабоков повел свою лекцию. В последние дни лета они много общались по вечерам. И в голове у девушки ясно рисовалась картина возможной лекции.
«Все эти ваши «медиа»… – сказал бы Однобоков. Правда неясно было откуда он взял это странное слово «медиа», ведь время, о котором ведется повествование могло едва ли похвастаться наличием стиральных машин, не говоря уже о машинах вычислительных, однако, как известно, большие умы зачастую опережают время. А может Однабоков просто выдумал это слово сам? кто его знает… – Все эти ваши «медиа», ленты, рейтинги, СМИ… – говорил тем временем писатель. – Вы просто находитесь в бесконечном потоке. Представьте, что происходит в голове у корреспондента, который непрерывно пишет новости: рождение белого мишки в зоопарке, чередуется с выпавшим из окна ребенком. Взятки, происшествия, пожары, железные дороги, упавшие самолеты, градозащита, активизм, урбанизм, империализм… – новостями интересуются те, кому нечем больше интересоваться. И главное, вы, журналисты, посмотрите на своих старших коллег: одутловатые лица, сутулые плечи и пивной живот. Такими вы ходите быть после тридцати? Нет, друзья мои, если журналистика для чего-то и была придумала, то точно не для того, чтобы делать людей счастливыми. Все это секундные новости, события, происшествия – все это пройдет. Завтра от этих «инцидентов» и «происшествий» не останется ни-че-го. Есть лишь бесконечный медиапоток, который сметает все на своем пути. И сметет и вас. Ему невозможно сопротивляться. Вы сойдете с ума от темпа жизни. Из каждого угла и прибора на вас орут и перекрикивают друг друга новости: «Отметим, что…», «Ранее СМИ писали…», «По сообщению губернатора…» «Городские активисты заявили…» – все это бессмысленно! Эти клише! Эти стандартные формулировки! Это все происходит от скудословия. Бегите, пока не поздно. Слова, слова, слова… люди говорят, потому что не привыкли к тишине. Это гонка информационного вооружения ведет нас к нервному срыву. Мы не внутри одного текста, мы уже между несколькими. В вашей голове образуется коллаж событий! Эклектика новостей! Буйство безумия! Каша происходящего! Вы уже не в состоянии мыслить связными предложениями и образами! Из каждого угла на вас кричат заголовки: «Сенсация! Сенсация! Сенсация!» Сбор, обработка и распространение информации – это конвейер! Фабрика! В результате вы живете неполноценной жизнью, урывками! Клиповое мышление лишает вас возможности прочитать мало-мальски длинную книгу! Вы хотите картинок! Люди делятся на три типа: инфлюенсиров, иначе говоря создателей потока, тех кто обслуживает этот поток – журналистов, и тех, кто его потребляет. Пока что вы просто обслуга. И вы сами зачем-то сделали этот выбор. Вы могли создавать что-то вечное. Но вместо того, чтобы снимать кино и писать книги, вы берете интервью у тех, кто снимает кино и пишет книги. Зачем? Хорошо хоть вы не третья категория – потребители, пустышки, бессмысленно прожигающие время. И все же мой вам совет: подумайте о вечном, что останется, когда не будет вас, друзья мои? Бегите, пока не поздно, бегите, пока жизнь не превратилась в один сплошной пресс-релиз!»
Стена, у которой Влад дожидался Киру после бара, находилась в холле первого этажа института и пестрила фотокарточками. Стена походила на дерево студенческих воспоминаний. Тут были и официальные снимки, и детские фото, а также карточки с подписями и без.
– Что это? – спросила Кира любопытно.
Брат лениво оглянулся, будто увидел на коллажистую стену впервые.
– «Встограмм», – пробурчал Влад, не считая нужным объяснять. Плитка гематогена, которую он при этом сосал, оставалась у него во рту во время разговора. Университет действовал на брата удручающе.
Дожевав, он все же объяснил, пускай и без энтузиазма.
– Ну вот у тебя есть стена. На ней «приложение» – так называется ватман или что там… – короче штука, приложенная к стене на нее все, кто хочет крепит свои фотографии. Называется «Встограмм», потому что образовано от английского «in-100-грамм», то есть каждый должен уложиться в сто грамм фотографий, а это ведь очень много! Хоть пятьдесят своих снимков прилепи сюда, а они все равно поместятся.
– А где твои фотографии? – Кира стала искать среди чешуи наслоенных друг на друга листочков знакомое лицо.
– Вампиров нельзя запечатлеть, – пошутил было Влад, но тут же пояснил. – Я их сюда не прикрепил. Ощущение такое, что выставляешь себя напоказ, продаешь… Есть похожее «приложение», только хуже… «Тиндер-сюрприз» называется. Так там вообще люди научились торговать любовью – смотришь в глазок, а там аппарат крутит фотографии… внутри бесконечная лента из сисек и задниц. Никогда не знаешь, какая будет следующая – поэтому и «сюрприз»! Если понравилась, записывай телефон, который тоже под фотографией есть.
– А ты откуда знаешь, как «Тиндер-сюрприз» устроен? – спросила Кира подозрительно.
Вместо ответа брат откусил новый кусок гематогена.
– А разве это не проституция продает любовь? – Кира задала вопрос после паузы.
– Проституция продает секс. И человек получает то, за что платит. Без прикрас. А здесь сплошной обман.