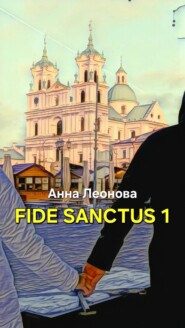По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Fide Sanctus 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дверь комнаты снова распахнулась – и снова неслышно.
– Жалко, что не видела, Ира! – громыхнул с порога Роман. – Послушала бы, как она с ним разговаривает, с полудурком! Та чернявая хотя бы в рот ему смотрела!
Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии расхаживал дома с голым торсом, без запроса пихая всем в лицо свою потрёпанную маскулинность. В одной руке он держал надкусанный тост с авокадо, а в другой – стакан козьего молока, которое кипятил строго шесть минут.
Испытав шумный прилив отвращения, Свят отвернулся к запотевшему окну.
Дождь усилился, и капли на стекле меланхолично набирали вес.
Вмиг растеряв педагогический пыл, Ирина Витальевна отступила к стене и заслонила плакат с солистом Океана Эльзы.
Морда гарпии с её лица уже была тщательно стёрта.
– Я спрашиваю её, куда она после ВУЗа собирается, – с набитым ртом продолжил Роман. – Приезжие же обычно домой возвращаются. А она: «Я не собираюсь назад, я в Гродно буду работать». И смотрит нагло так! Смотрит – и глаза не полопаются!
Рома вроде говорил о ситуации, когда его окунули в бочку с дождевой водой апреля… Но по его лицу разливалось вящее удовольствие.
Так он лучился, когда в шкуре прокурора выигрывал самые гнусные дела.
Отвращение накатывало всё новыми приливами; степенно разглядывать капли было невероятно трудно. В висках нарастал тугой звон.
Сколько бы обиды на Веру ни горело внутри, в разговорах с Ромой её хотелось защищать.
– «А с чего бы тебе», – говорю я ей, – «быть такой уверенной в своём распределении?» – лениво протянул отец. – «За тобой кто-то стоит»? «На кого ты рассчитываешь», мол?
– А она? – подала голос Ирина Витальевна, усиленно хмурясь.
Чтобы царь не дай бог не подумал, что с ним не согласны.
– А она: «На свой ум», – провозгласил Рома, грохнув на стол стакан с молоком; вокруг его рта блестели белые потёки. – Ну ты представляешь?! Подобные «умы», мать их, очень быстро идут к чертям, если у распределительной комиссии другое мнение! А этот дебил стоит лыбится, плечики её теребит! И снова лыбится, ну ты глянь!
Не пытаясь сдержать ухмылку, Свят крепче сжал край шершавой шторы. Грудь распирала смелая гордость.
Словно слова и поступки Веры были словами и поступками его самого.
– А она знала, кто ты? – робко поинтересовалась Ирина.
– Да знала, конечно! Копирку же подложили! – нетерпеливо воскликнул старший Елисеенко, закипая на глазах. – И ещё оглядывалась на него! За поддержкой! ЧТО ТЫ МОЛЧИШЬ?! ТЫ БЫ ХОТЬ ПОПЫТАЛСЯ РОТ ЕЙ ЗАТКНУТЬ!
Если кому-то и надо было затыкать рот, то не ей.
Не торопясь блистать перед прирождённым прокурором бенефисом оправдательной речи, Свят упрямо молчал, стараясь держать спину прямой.
Получалось это наверняка не лучше, чем у креветки.
– Так вот у кого ты научился нам хамить? – с победной интонацией произнесла мать.
Вера опоздала; хамить вам я у вас научился.
– Не говори, Ира! – вознёсся под потолок голос Романа; он соглашался с женой раз в год, но всегда – крайне выразительно. – Мало прогулов и опозданий с появлением этой шалавы?! Мало незачтённых работ?! Твои бабы теперь будут ещё и накладывать дерьмо мне на голову?! Ты думаешь, что я…
Я вообще о тебе не думаю!
– Кому ты нужен, уймись! – рявкнул Свят, обернувшись. – Я знаю, что делаю! Я разберусь с Еремеевым!
Чёрт, вот зачем? Зачем ты это сделал? Зачем обернулся?
Вид отца только прибавил огонь под казаном, в котором томилась набухающая ярость.
– Он «знает», слышала?! Он «разберётся»! – хохотнув, триумфально заявил Роман.
Внутренний Ребёнок всхлипнул и потянулся к матери.
Ирина Витальевна пробежала по лицу сына глазами безразличными, а по лицу супруга – заискивающими; полными искристой солидарности.
– Машу эту – или как там её – для чего переселили?! – угрожающе прошипел Роман. – Чтобы в грязи советской вы не колупались! Так он к другой бабе прыгнул в грязь эту старую! Дома ночуй! Услышал меня?! Нечего там делать тебе!
До чего мерзким казался бы ты, не будь ты привычным.
Презрительно хмыкнув, мать уставилась на свои ногти.
– А ты за что её осуждаешь, Ира? – вызывающе бросил Свят. – Ни разу не увидев.
Поджав губы, Ирина Витальевна промолчала; на её лице была написана смиренная и скучающая; священно-материнская вселенская скорбь.
– ТЕБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ… – немедленно завёл отец, отряхнув руки от крошек.
– Я НЕ С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАЮ! – выплюнул парень.
Роман отшатнулся и дёрнул губой; его глаза под смолистыми бровями превратились в ехидные щёлки.
Будь по-твоему, воительница с мельницами.
Это была чуть ли не единственная сфера, в которой Ира так долго не опускала хоругви; хотя бы это следовало уважать.
– Мама! – с нажимом позвал он. – Мама, объясни. Тебе-то она что сделала?
Узнать это отчего-то было чрезвычайно важно.
В этот миг казалось: важнее, чем отвадить от Улановой долбаного Петренко.
– Нет, ну ты не перегибай, – мрачно буркнул Прокурор.
Губы Ирины еле заметно вздрогнули, но она не издала ни звука; гарпия из гранита всё так же смотрела в пол. Её руки были скрещены на груди так плотно, что костяшки пальцев побелели, а блузка на локтях нещадно измялась.
Обрати на меня внимание, Ромина ты кукла!
На плечи навалилась бетонная усталость.