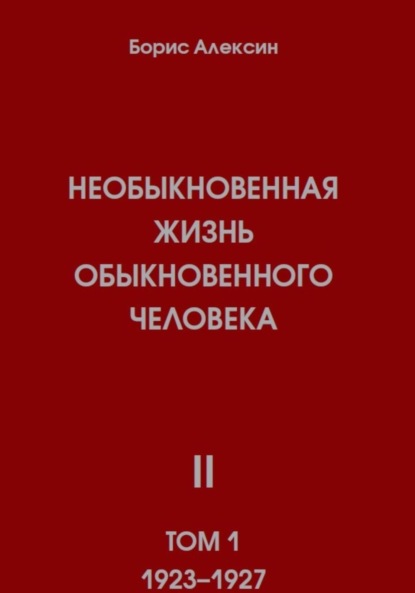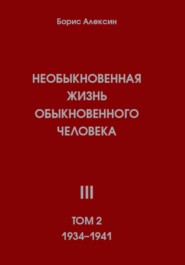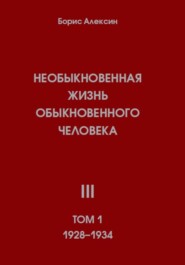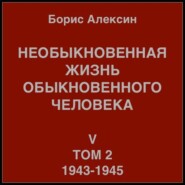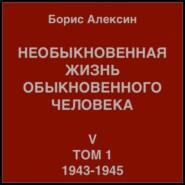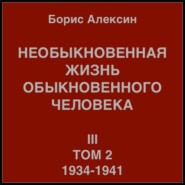По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Родителей мы известим… Пошли, товарищи.
Пока он говорил, санитары унесли труп и в ту же машину усадили Сеньку, которого била дрожь, и он продолжал монотонно повторять:
– Я его убил, убил…
Через полчаса я уже знал все подробности происшествия. Играя в разбойников, Сенька убегал от одного из своих друзей, от Жучкова, пробегая через комнату брата, он схватил стоявший в углу карабин, и, приложившись, закричал своему преследователю:
– Не подходи, убью!
А когда тот не послушался, он передёрнул затвор и нажал на спусковой крючок. Карабин выстрелил, пуля попала мальчику в лоб, смерть была мгновенной. Сенька, испугавшись, бросил карабин на пол, а сам забился в противоположный угол, затрясся, заревел и так, закрыв лицо руками, просидел всё это время. Добиться от него, каким образом карабин оказался заряженным, не удалось. Николай клянётся, что он карабин разрядил ещё в казарме, что патронов домой никогда не приносил, и что просто не может понять, каким образом Сенька достал патрон. Все пришли к такому выводу, что мальчишка нашёл японский патрон где-нибудь во дворе (а их ещё валяется во владивостокских дворах достаточно), балуясь, засунул его в карабин и забыл об этом. А передёрнув затвор, загнал его в ствол и выстрелил. После убийства остальные ребятишки, увидев лежащего в крови на полу своего товарища, с криками разбежались, подняли этим переполохом соседей. Кто-то из них добежал до ГПУ, и через полчаса после происшествия в квартире уже работала комиссия, которую я и застал. Как раз в это день я получил вызов на работу из Шкотова и начал оформлять расчёт на службе там, во Владивостоке. На следующий день Сеньку перевели в психиатрическое отделение больницы, признав, что у него серьёзное нервное потрясение, Николая посадили под арест. Начальник губотдела, посчитав, что произошёл действительно несчастный случай и что лично Николай в нём неповинен, ограничился лишь приказом арестовать его с содержанием на гарнизонной гауптвахте в течение 20 суток и переводом для дальнейшей службы в Советскую Гавань.
Слушая рассказ отца, Борис никак не мог понять, в чём его вина. Он, конечно, хотя и не очень любил Гетуна (мы знаем почему), но сочувствовал ему и его братишке, но он-то тут при чём? И он не выдержал:
– Папа, это, конечно. очень печально, даже страшно, но при чём здесь мы? То, что это произошло в нашей квартире – ведь мы не виноваты!
– Подожди! – повысил голос отец, – сейчас узнаешь. Ты что, не помнишь, что в твоём барахле имелось, а? Спустя два дня после этого случая начал я собирать оставшиеся наши вещи, чтобы отправить их багажом в Шкотово, добрался и до твоей корзинки и чуть в обморок не упал: на самом верху – коробка из-под конфет, полная японскими патронами! Ну а если бы тем, кто расследовал это убийство, пришло в голову в нашей квартире обыск сделать? Нашли бы эти патроны! Так кто бы был виноват в убийстве мальчика, а? Ответь-ка!
Борис сидел как пришибленный… Как же он забыл про эти окаянные патроны? Да ведь, впрочем, он их на самое дно корзинки запихал, почему же они наверху оказались? Значит, этот чёртов мальчишка залез в его корзинку, всё там перевернул и разыскал эти патроны, и значит, теперь Борис, хоть и косвенно, но виноват в гибели ни в чём не повинного мальчишки! Да и другой-то, убийца, говорят, тяжело болен…
А отец между тем продолжал:
– Схватил я эту коробку, выбежал с нею на двор и бросил её в уборную, а на тебя так рассердился, что и корзинку твою брать не захотел! Оставил её хозяйке, сказал, что ты сам за ней приедешь. Вот, брат, к чему приводит твоё легкомыслие! – закончил рассказ Яков Матвеевич.
– Да, – добавил он, – ни мать, ни кто-нибудь другой не знают, что у тебя были патроны, так ты смотри, и сам кому-нибудь не сболтни! Ну, ступай, я посплю!
Продолжая раздумывать над услышанным от отца, Борис старался себя убедить, что всё-таки это несчастный случай, к которому он отношения не имеет, но в глубине души у него на всю жизнь остался осадок своей вины.
«Эх, кабы папа догадался посчитать патроны! Ведь там было ровно 30, если бы столько и оставалось, так я бы спал спокойно».
Неприятное чувство, оставшееся на душе у парня, изгладилось лишь после того, как вечером он очутился в клубе на скамейке рядом с Катей Пашкевич. Каким-то образом ему удалось сесть между обеими девушками и, делясь с соседом в перерывах между частями фильма впечатлениями об увиденной картине, Катя довольно дружелюбно поведала ему и о шкотовских новостях. Она рассказала, что недавно в Шкотове проходила комсомольская конференция, на которой избрали районный комитет комсомола, он будет помещаться в одной из казарм вместе с райкомом партии. Собственно, не весь комитет, а лишь его бюро, в состав которого вошли три комсомольца: секретарь – Смага Захарий, он из села Новороссия, до этого служил инструктором Владивостокского укома РЛКСМ; агитпроп райкома (Сокращённое название отдела от слов Агитация и Пропаганда – прим. ред.) – Володька Кочергин, когда-то бывший секретарём шкотовской ячейки РЛКСМ, и инструктор – Гришка Герасимов.
Если Смагу Борис не знал, то последних двух знал очень хорошо, а с Герасимовым даже и жил вместе несколько месяцев.
Рядом с ними сидели ещё две девушки, они учились с Катей и Нюськой в одном классе, одна из них оказалась сестрой Смаги, Лидой, а другая – Полей Воробьёвой, или, как её все называли, Полей Горобец, что по-украински и значит воробей.
Если Лида – аккуратненькая чёрненькая девушка ничем особенно не выделялась, то про Полю такого сказать было нельзя. Эта девица имела мощное телосложение и была почти на голову выше всех своих одноклассниц. Её руки и ноги были чуть ли не вдвое больше Катиных, говорила она каким-то басовитым голосом и на её верхней губе заметно пробивались усики.
Несмотря на свою довольно-таки грозную внешность, Поля была исключительно добродушной и покладистой девушкой, души не чаявшей в Кате Пашкевич, с которой она делилась всеми своими девичьими тайнами.
А одна из них даже, кажется, не могла не заинтересовать Катю. Дело в том, что Воробьёва была родом из Новонежина и довольно часто ездила из Шкотова домой. Там она почти всегда бывала и на школьных вечерах, и на спектаклях, а иногда даже и на пионерских сборах, где слышала очень много хороших отзывов о Борисе Алёшкине, сумевшем завоевать уважение у взрослых крестьян своим серьёзным отношением к работе, точностью в расчётах и принципиальностью по отношению к служебным делам. Среди комсомольцев Борис тоже пользовался уважением, он всё выполнял с таким усердием, с такой горячностью, что невольно заражал этим и товарищей. Ну а про пионеров уж и говорить было нечего, мы уже упоминали, что Борис стал их лидером.
Если говорить честно, до идеального комсомольца ему было ещё очень далеко, и мы в этом убедимся в дальнейшем, но окружающие считали его образцом, к их числу относилась и Поля Воробьёва. Она, если ещё и не призналась в этом Кате, то во всяком случае дала понять, что очень неравнодушна к этому парню. Смущало её только частое посещение Борисом вместе с его другом Федькой Сердеевым учительниц Поли Медведь и Тины Сачёк.
– Наверно, они там любовь крутят! – говорила она Кате.
То ли эти признания Поли, то ли обычный девичий каприз, но что-то побудило в этот вечер Катю не только позволить Борису сидеть рядом и дотрагиваться до её руки, как бы в порыве увлечения картиной, не только беседовать с ним о шкотовских новостях, но даже и позволить проводить себя до дому, так как идти им было по дороге. Такого счастливого поворота событий он никак не ожидал и, хотя очень хотел этого, в глубине души не надеялся на осуществление своей мечты. И вот она сбылась: они с Катей рядом на расстоянии какого-нибудь шага идут одни. Выбравшись из толпы зрителей, покидавших клуб, каким-то образом сумев отделаться от Катиных подруг, они, наконец, идут только вдвоём.
Так прошли они почти половину пути в молчании, сколько Борис не силился завязать разговор, ничего у него и не получилось. Куда девалось его красноречие? Куда девались его бойкость и развязность, которые никогда не покидали его в подобных положениях с другими девушками? Как ни придумывал он тему, чтобы начать разговор, так ничего и не нашёл. Боря даже не осмеливался взять девушку под руку, хотя с любой другой он уже давно бы это сделал.
Катя тоже молчала. Неизвестно, что чувствовала она, но во всяком случае облегчать положение Бориса не собиралась. Возможно, она наслаждалась его смущением и растерянностью, понимая, что оно происходит от его особого отношения к ней, возможно, сердилась на него за его робость и ненаходчивость, а возможно, и сама испытывала состояние, подобное тому, в котором находился он.
А он, вероятно, и не смог бы хорошенько описать или рассказать то, что он переживал. Ему особенно-то даже и не хотелось говорить. Он был рад идти вот так, рядом с Катей, даже не касаясь её, а только время от времени поглядывая на тонкую стройную фигурку, зябко кутавшуюся в большую шаль, накинутую на короткую ватную курточку или пальто, из которого она уже выросла.
Сегодня в клубе он впервые увидел Катю остриженную, у неё оказалась такая маленькая и аккуратная головка, что Борису казалось, что он мог бы обхватить её своими ладонями целиком.
Когда Катя поворачивалась к Борису и её блестящий взгляд внезапно сталкивался с его, она быстро отворачивалась и ускоряла шаги. Дорога от клуба до Катиного дома, находившегося в центре села, занимала не более двадцати минут, и Борис не успел заметить, как они уже очутились у её ворот. Катя свернула с дороги на узенькую тропинку, ведущую к калитке в воротах их двора и, обернувшись, тихо сказала:
– До свидания, Борис!
Боря рванулся за ней, чтобы хоть попрощаться с ней за руку, но было уже поздно, калитка захлопнулась перед его носом, и он услышал за ней лукавый смешок, однако открыть калитку не решился.
И вот, не было в их отношениях ничего из того, что бывало с другими девушками – ни весёлой болтовни, ни поцелуев, ни объятий, а Борис был так счастлив от этой короткой молчаливой прогулки, как будто бы получил в подарок весь мир.
Он долго не мог уснуть. Услышав ворчание пса, недавно приобретённого Алёшкиными, свистнул ему, выманил из-под крыльца, где было устроено подобие конуры, и ещё долго ходил с ним по улице мимо дома Пашкевичей, где уже, наверно, спала сладким сном его первая и единственная настоящая любовь. Правда, в это время он пока даже в мыслях не осмеливался называть её «моя Катя».
Несколько слов о собаке. Это был большой, лохматый, чёрный с рыжими подпалинами на груди и животе пёс, с короткой широкой мордой, широкой мощной грудью и довольно грозным видом. При этом он отличался добродушным характером и позволял младшему Алёшкину, Жене, делать с ним что угодно: таскать его за длинные висячие уши, дёргать за хвост, ездить на нём верхом, теребить его густую шерсть на груди и даже засыпать на подстилке рядом с ним, положив голову на его пушистый тёплый бок.
Звали собаку Мурзик, приобрели его у какого-то корейца. Кормили пса хорошо, и через несколько недель он превратился в красивую упитанную собаку. Шерсть его стала блестеть, как шёлк.
Оставляя трёхлетнего Женю дома одного на несколько часов, Яков Матвеевич и особенно Анна Николаевна, конечно, беспокоились о нём. Нанять няньку не могли: их заработка едва хватало на то, чтобы прокормить и кое-как одеть себя и ребят, детских садов не было, вот и решили доверить своего младшего сына собаке. И не ошиблись: Мурзик оказался хорошим сторожем, защитником и добрым другом маленького Жени.
Познакомились Борис-большой и Мурзик ещё в начале осени и быстро подружились. Почти всегда, когда парень приезжал из Новонежина и бродил по селу, Мурзик его сопровождал.
С рассветом следующего дня, наскоро закусив и простившись с родными, Борис умчался на станцию, чтобы с первым же товарным поездом уехать в Новонежино. Хотя на улице было довольно холодно, а его одежда не соответствовала путешествию на тормозной площадке товарного вагона, парня это беспокоило мало. Он успел перезнакомиться почти со всеми поездными бригадами и знал, что его всегда пустят в служебную теплушку, где топится железная печка и бывает не только тепло, но даже и жарко.
Так и случилось, через полчаса он уже лежал на нарах такой теплушки, укрытый чьим-то большим тулупом, и крепко спал, нагоняя то, что не успел сделать в предыдущие ночи.
Между прочим, то ли перед сном, то ли во сне ему вспомнилось, что, когда он торопливо шагал по шпалам к станции в сумерках наступающего утра, посмотрев на двор дома Пашкевичей, он заметил тонкую девичью фигурку, которая как будто бы приветно махнула ему рукой.
* * *
Первые месяцы 1925 года на участке в Новонежине кипела такая напряжённая работа, что Борис и Фёдор были загружены до предела. В конце февраля снова приехал представитель японской фирмы. На этот раз это был не известный уже всем Цикамура, а русский представительный мужчина, чем-то напоминавший главного инженера конторы, одетый в такую же оленью доху и сапоги, сшитые из оленьих шкур.
Он снял квартиру в одном из соседних с конторой домов и заявил, что пробудет здесь до конца выполнения участком договора. Звали его Фёдор Васильевич Северцев. Он оказался не таким сговорчивым, как Цикамура, и не только не доверил своё клеймо служащим участка, а даже нанял себе в помощь счётчиков, которые вслед за Борисом или Фёдором тщательно пересчитывали каждую стойку, отмечая её своими разноцветными мелками. Эти же счётчики тщательно перемеряли и толщину стоек, казавшихся им не соответствующими размерам, обусловленным договором.
Как правило, такие пересчёты стоек не сходились. У счётчиков, нанятых Северцевым, их количество в штабеле всегда оказывалось меньшим, и это выводило ребят из себя, они вступали в пререкания, требовали нового перерасчёта, те не соглашались, поднимался шум и спор.
Дмитриев, узнав о причине такого спора, успокоил ребят:
– Плюньте, чёрт с ними! Если они увезут 10–15 стоек лишних, Дальлес от этого не обеднеет, ну а ссориться с приёмщиком нам невыгодно – он браковать строже начнёт, и мы больше потеряем.
Дотошный Дмитриев оказался прав. Он, конечно, прибегнул к своему излюбленному средству и вечером, за хорошим возлиянием, умело «обработал» Северцева. Когда на другой день Фёдор переписывал акт для отправки его в контору, то увидел, что количество сданных стоек в кубофутах порядочно превышает то, которое они с Борисом насчитали при расчётах с крестьянами.
Северцев обещал сидеть в Новонежине до конца работ неотлучно, но, очевидно, это ему скоро надоело. Он выехал в город, оставив за себя одного из нанятых крестьян, а тот, в свою очередь, получив с него вперёд деньги, передоверил всю работу дальлесовским десятникам и передал им своё, оставленное Северцевым, японское клеймо.
К чести наших ребят и Дмитриева, нужно сказать, что они этим не злоупотребляли и старались вести подсчёты как при оформлении акта на сдачу, так и при погрузке в вагоны, достаточно точно.
Вскоре Дмитриев всю работу по участку почти полностью передоверил своим молодым помощникам, сам изредка наведывался в лес и самостоятельно заполнял лишь цифры в актах сдачи стоек японцам. Всё остальное делали Борис и Фёдор, а остального было много: ведь, кроме заполнения квитанций для возчиков, составления отчётов о дневной заготовке и вывозке, которые ежедневно посылались в шкотовскую контору Дальлеса, нужно было заполнить железнодорожные накладные, составить ведомость на расчёты с грузчиками, потому что, хотя деньги за эту работу и получал ежедневно старшина китайцев, требовалось представлять ведомости с подписями всех работавших грузчиков.