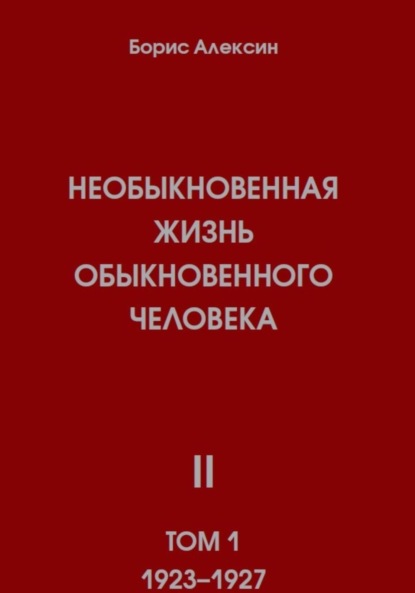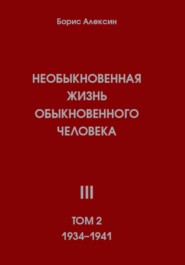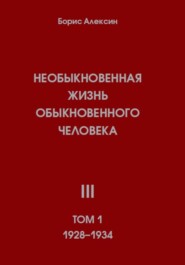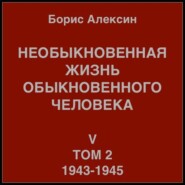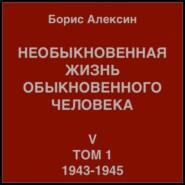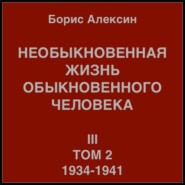По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь, правда, всё делалось очень просто: джангуйда (так называли старшину в китайских артелях) называл китайские фамилии рабочих, кто-нибудь – Борис или Фёдор писали их в ведомости, против каждого писался его заработок, рассчитанный путём деления общей заработанной за день суммы на количество работавших, и отдавал все деньги этому китайцу, а тот уже сам, по каким-то ему одному известным признакам, расплачивался с каждым грузчиком в отдельности, уплачивая столько, сколько считал нужным. Через день он возвращал ведомости с иероглифами против каждой фамилии, долженствовавшие обозначать расписки получателей.
Осложняла работу молодых десятников и сама погрузка стоек в железнодорожные вагоны. Ведь приходилось следить за тем, чтобы грузчики не захватили те стойки, которые ещё не были сданы японскому приёмщику, чтобы они загрузили вагон полностью, так как при перевеске вагонов, а это делалось на станции Угольной (только там имелись вагонные весы), если обнаруживался более или менее существенный недогруз, то железная дорога составляла акт, и Дальлесу приходилось платить штраф. Такие недочёты отражались на десятниках, руководивших погрузкой.
Нужно было, наконец, следить и за своевременностью погрузки: на погрузку отводилось строго определённое время, задержка вагонов вызывала опять-таки штраф. А в этом вопросе Макар Макарович был беспощаден. Штраф платила контора, но 10 % его взыскивали и с виновных десятников. Следовательно, и в этом деле нужна была предельная внимательность.
Само собой разумеется, что, несмотря на такую загруженность по службе, ни Фёдора, ни Бориса от их комсомольских обязанностей никто не освобождал. Борис продолжал так же руководить своим пионерским отрядом, который численно рос не по дням, а по часам, и требовал всё большего и большего внимания. Принимал Борис участие и в оформлении стенгазеты, и в драмкружке, и в оркестре, и во всех собраниях, и в других делах комсомольской ячейки.
К концу января Франц Иванович сшил-таки обоим ребятам долгожданные костюмы. Гимнастёрки сидели немного мешковато, зато галифе были таких размеров, что новонежинские ребята прямо лопались от зависти. Правда, уже через неделю у Бориса с этими брюками произошли серьёзные неприятности.
Галифе в нижней своей части шились так, чтобы облегать ногу в обтяжку от щиколотки до нижней части бёдер, переходя далее в пышные крылья и заканчиваясь широким поясом. Франц Иванович сшил их по самой новейшей моде, но не учёл того, что у Бориса колени и икры оказались очень мощными. Когда заказчик натянул новые брюки, то почувствовал, что его ноги ниже колен будто очутились в тисках. При ходьбе это не особенно мешало, и на вопрос Франца, хорошо ли сидят на нём брюки, он ответил, что хорошо.
Неделю он щеголял в них, хотя залезал с трудом. В воскресенье при исполнении роли попа, надев костюм-рясу, он снял рубашку-гимнастёрку, а брюки снимать не стал, ведь их под рясой не видно. И вот, когда по ходу действия поп, уличённый в каком-то мошенничестве, со страхом бросается на колени перед представителем власти, во время этого движения на сцене раздался подозрительный треск. Этот звук, схожий с несколько иным, иногда непроизвольно производимым людьми, был, конечно, не слышен в зале, но его хорошо расслышали актеры, участвовавшие в сцене, они не могли сдержать смеха, а ужас, написанный на лице Бориса, хотя и соответствовал состоянию исполняемой им роли, вызвал уже настоящий хохот и артистов, и, наконец, всего зала. Зрители подумали, что артист замечательно сыграл свою роль и разразились аплодисментами. А несчастный артист думал только о том, как бы скорей закончилась эта сцена, он-то догадывался, что это был за треск.
И на самом деле, стоило только ему выбраться за кулисы и снять рясу, как он убедился в своём предположении: его новые галифе на обеих ногах лопнули от коленей почти до середины бёдер, а вниз – чуть ли не до щиколотки. Причём, к несчастью, не по швам – портной использовал добротные нитки, сукно оказалось хуже, чем предполагалось, и не выдержало натяжения именно оно.
Конечно, с такими дырами нельзя было уже оставаться на вечере, и Борис поспешил домой. Больше всего его огорчало то, что он не сможет похвастаться этими брюками перед Катей. Правда, Франц Иванович вскоре исправил порванные брюки, и Борис проходил в них ещё не один год, но это было уже не то. А все его партнёры по драмкружку с тех пор постоянно подтрунивали над ним, подсказывая, когда ему приходилось делать какое-нибудь резкое движение:
– Береги брюки!
Глава пятнадцатая
Как-то в начале марта, после концерта, дававшегося в честь Международного женского дня (8 марта), во время весёлых танцев и игр, проходивших в школьном зале, вбежала встревоженная уборщица, она же и сторожиха избы-читальни. Трясясь от страха, она довольно громко сказала стоявшему ближе всех к двери Хужему:
– Избачка отравилась!
Эти слова услыхали все близстоящие люди, моментально передали их другим, веселье прекратилось, большая часть комсомольцев бросилась к избе-читальне.
Конечно, в числе бросившихся первыми были и Борис с Федей. Остальные, обсуждая происшедшее событие, разошлись по домам.
Когда Борис и Фёдор подбежали к избе читальне, около её дверей на крыльце собралась уже порядочная кучка комсомольцев, о чём-то горячо спорящих, но не решавшихся зайти внутрь. Рискнула только одна комсомолка – Саша Середа, женщина лет 25, недавно приехавшая домой с Первой Речки, где она жила около года с мужем-железнодорожником и где работала мойщицей вагонов. Было известно, что их брак распался, и Саша вернулась домой в Новонежино в родительскую семью.
Медиков в то время в Новонежине не было, ближайший фельдшерский пункт находился в Кангаузе, врач – только в Шкотове, а помощь была нужна немедленная, вот и взялась помочь эта молодая женщина. То ли она на курсах каких училась, то ли вычитала где-то что-то, но Саша смело принялась за спасение отравленной, и, очевидно, знала, что нужно делать.
Она вышла на крыльцо и обратилась к стоявшим там комсомольцам (при этом совершенно случайно ближайшими к ней оказались наши друзья):
– Слушай-ка, Алёшкин, беги к нам домой и принеси две кринки молока. Скажи маме, что я прошу, она даст. Сердеев, пойдём со мной в комнату, будешь мне помогать. А вы, ребята, – обратилась она к остальным собравшимся, – расходитесь-ка по домам, ничего тут интересного нет! Да пока поменьше об этом трепитесь, ведь она комсомолка. Некоторые сразу воспользуются, чтобы тень на комсомол навести, а комсомол-то здесь ни при чём. Видно, дело житейское.
Подчиняясь её властному тону, все стали расходиться. Борис побежал к дому Середы, он знал, где этот дом находится: старший брат Саши – член РКП(б), председатель местного кооператива, его дом комсомольцам был хорошо известен.
Минут через 10 он уже вернулся к избе-читальне и, несмело приотворив дверь в маленькую комнатку, соседствовавшую с помещением самой избы-читальни и служившую жильём избачке, зашёл внутрь.
Пока он ходил, Середа и Сердеев успели уже выяснить обстоятельства дела. На столе они нашли скомканное письмо от какого-то Володи, очевидно, жениха Клавдии Семёновой, сообщавшего ей, чтобы она на него не надеялась, так как он уже женился на другой. Рядом с этим письмом лежала записка на листочке, вырванном из тетради, в ней было написано: «Прошу в смерти моей никого не винить». Тут же валялась бутылочка из-под уксусной эссенции и кучка раскиданных спичек с обломанными головками. В комнате остро пахло уксусом.
Сама Клава лежала на широкой деревянной кровати с закрытыми глазами, бледным лицом и раскинутыми широко руками. В одной из них она держала эмалированную кружку, из которой, видно, пила отраву. Она стонала и временами слегка вздрагивала.
Поставив молоко на стол, Борис подошёл к стоявшим в стороне Саше и Фёдору и огляделся по сторонам.
Комната избачки, в которой до этого никому из присутствующих бывать не приходилось, смотрелась неприглядно: пол был закидан окурками (она ведь курила), на стенах, кроме треснутого маленького зеркала и выцветшей дешёвенькой фотографии какого-то парня с лихо закрученными усами, не было ничего. Единственное окно занавешивала какая-то не очень чистая тряпка. Небольшой кухонный буфет с раскрытыми дверцами не блистал чистотой, а выглядывавшая из него кухонная посуда была изрядно закопчена. Кровать, на которой лежала пострадавшая, застланная грубым одеялом и не очень чистыми простынями, стояла у противоположной от входа стены, в ногах её находилась маленькая печка с крошечной плитой. По другую сторону печки в углу стояла широкая скамейка с брошенным на неё большим тулупом, очевидно, это была спецодежда сторожа, брошенная сторожихой, испугавшейся вида отравленной и побежавшей в школу сообщить о несчастье. Около стола и кровати стояли две табуретки.
Поставив молоко на стол и не зная, что нужно делать дальше, Борис, поглядывая на Фёдора, переминался с ноги на ногу. Самым горячим его желанием было как можно скорее уйти из этой вонючей комнаты.
Середа, посмотрев на лица обоих ребят, поняла их желание. В то же время оставлять пострадавшую без помощи было нельзя, а одной Саше находиться тут тоже не хотелось. Она подошла к Клаве, выдернула у неё из рук кружку, вытряхнула на стол находившиеся там спичечные головки, которые так, целиком, на дне кружки и лежали, понюхала зачем-то кружку, затем слегка улыбнулась, почерпнула воду из стоявшего около двери ведра, приоткрыла дверь и выплеснула её на улицу. Подозвав к себе жестом ребят, вышла с ними на крыльцо и тихонько сказала:
– Вот что, хлопцы, думаю, что тут отравление больше для виду, чем на самом деле. Насмотрелась я на этих отравленных-то уксусной эссенцией в городе. На Первой Речке, где мне в общежитии жить приходилось, были такие случаи не так уж редко, особенно при белых, не такие они были! Видела я, как фельдшера и доктора им помощь оказывали. Ну а спички – вон, все целиком остались. Я думаю, что она и выпила-то совсем ничего. Я ей на всякий случай сейчас молока дам, приберу в комнате, а вы пока погуляйте. Но одну её оставлять сегодня нельзя: мало ли, что ещё она натворить может. Одна с ней я оставаться боюсь, останемся все вместе, ладно?
Ребята согласились.
– Ну вот и хорошо. Погуляйте пока, я вас потом позову, – и Саша скрылась в комнате.
Через полчаса она вышла с помойным ведром в руках. Возвращаясь, позвала ребят с собой. На крыльце они на несколько минут задержались, и Саша сказала:
– Что же, ребята, всё в порядке. Поревела она немного после моего лечения, рассказала, что уж больно обиделась на того парня, который её бросил. Вот и сделала глупость, да не сумела путём. А мне кажется, что не очень-то и хотела, просто в отравленную сыграть задумала, артистка! Я ей сказала, что тут останусь и что вас с собой оставляю, так она даже вроде обрадовалась. Ну пойдёмте, а то вы тут замёрзли, наверное. Я прибрала там, сколько можно было, и печурку растопила.
Ребята вошли в комнату и несмело остановились около порога. Саша, задержавшаяся немного на улице, зайдя за ними, заперла дверь на крюк и шутливо заметила:
– Что это вы, как несмелые женихи, у дверей топчетесь? Проходите, раздевайтесь. Сейчас на ночь устраиваться будем. Кормить и угощать мне вас нечем: молоко вон на неё всё истратила, да и то без толку, – мотнула она головой на лежавшую и укрытую одеялом Клавдию.
– Да, ребята, видите, какая я дура? Травиться вздумала! Да из-за кого?! А главное, и этого сделать как следует не сумела…
Заметив, что разговор переходит в опасную зону и может привести к истерике, Середа постаралась его прервать:
– Хватит об этом! Время позднее, парням завтра работать надо. Давайте-ка спать… Что же постлать вам – тулуп на полу, что ли, вот тут, около печки?
– Нет, нет, – запротестовала Клавдия, – на полу они замёрзнут. Пол щелястый, у меня к утру вода в ведре замерзает. Лучше уж так: один пусть ко мне ляжет на кровать, а другой с тобой на лавке уместится, она широкая. Иди ко мне, Федя, ложись рядом!
Ребята переглянулись, но отказываться не стали. Сбросив сапоги, распоясавшись и сняв гимнастёрки, они, погасили лампу и устроились рядом с молодыми женщинами.
Вдвоём на лавке было тесно, и для того, чтобы не упасть, Борису пришлось крепко прижаться к Саше, да и шуба, которой они укрылись, требовала того, чтобы они находились как можно ближе друг к другу.
Первый раз в жизни Борис собирался спать в обнимку с молодой женщиной под одной шубой, ему было и неудобно, и стыдно. Правда, оба они были одеты, но и сквозь одежду он чувствовал её молодое горячее тело, её тугие груди, упиравшиеся в его грудь.
Саша как-то странно хихикнула, и, обхватив шею парнишки руками, прижала его к себе и шепнула:
– Да обними ты меня как следует, а то ещё свалишься с лавки, ногу сломаешь, отвечать за тебя придётся!
Борис послушно обхватил её руками за спину. Ему становилось жарко, уши и шея у него горели. Некоторое время они лежали, не шевелясь, и молчали, но оба не спали. И, конечно, совершенно неожиданно, по крайней мере, для Бориса, между ними произошло то, что может произойти между двумя молодыми здоровыми людьми, лежащими в обнимку друг с другом.
Как всё это произошло, Борис даже и не помнил, он был как во сне. Опомнился он только тогда, когда руки молодой женщины уперлись ему в грудь и он услышал иронически-насмешливый полушёпот:
– Что же ты за неумёха! В первый раз, что ли?.. Как бешеный какой-то!
Для Бори это действительно случилось в первый раз, хотя, конечно, он в этом не признался, промолчал. Но молодая женщина, видимо, достаточно опытная в этих делах, продолжала тем же полушёпотом:
– Молчишь! Так, значит, в первый раз! Ты бы хоть признался, да сказал, мол, научите меня, тётенька! А то прёшь, как дуролом, никакого удовольствия! Эх, ты! Ну да в другой раз умнее будешь, – она немного помолчала, а затем злорадно продолжила, – А ведь я теперь твоя крёстная! Окрестила тебя, из мальчишки мужиком сделала! – и она ядовито хихикнула.
Борис испытывал такой стыд, что даже не нашёлся, что и сказать. Ему было противно всё, что только что произошло, и сама Середа, и её полуобнажённое тело, всё ещё прикасавшееся к нему. А пошлые, равнодушные и какие-то цинично-рассудочные слова вызвали у него чувство такого омерзения, что он не выдержал, вскочил с лавки, торопливо надел рубаху, натянул сапоги, нахлобучил кепку, накинул тужурку и выскочил на улицу, захлопнув за собой дверь. Середа спросила полусонным голосом:
– Борис, ты куда? На двор?