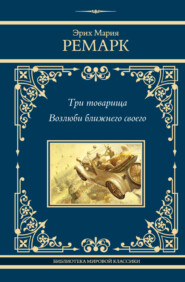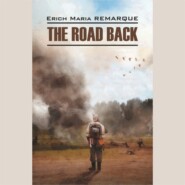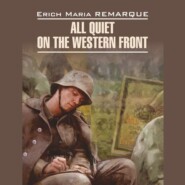По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я жизнью жил пьянящей и прекрасной…
Автор
Жанр
Год написания книги
1998
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лос-Анджелес, лето/осень 1942
Как выныривают, милостивая госпожа, из неистовой смеси водки, рома и грозовой ночи (в волосах остатки кошмаров, в брюхе бромо-зельцеровская вода, в душе ощущение проходящего хаоса), просыпаясь либо друзьями на всю жизнь, либо вечными врагами – кто знает исход? Слава богу, в нас осталось еще так много дикости!
Посылаю Вам из своих сокровенных жидких запасов завернутую в цветы бутылку русской водки – как план войны, завернутый в бумажку с мирным договором, – с величайшим почтением.
Мы салютуем Вам, герцогиня, поднимая полные стаканы в Вашу честь после того, как Вы нас покинули. Мы испытываем к Вам то почтение, какое волки питают к львицам.
Салют! Вам и Верфелю —
Ваш
Эрих Мария Ремарк.
Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю
Нью-Йорк, ноябрь 1942 года
Мы превратили комнату шампанского (так это теперь называется) ресторанчика «Эль-Мароккос», где обосновался наш любимый венский музыкант, в наш любимый полевой штаб, откуда методически и энергично, вооружив каждого второго сигарой и цимбалами комнаты грез «Монте-Карло», ринулись в Гарлем, Чайнатаун, Бруклин – обжираться в чешских, еврейских и французских ресторанах, где удостоверили высочайшие питейные качества столицы и потребовали мозельское урожая тридцать седьмого года, веленерские солнечные часы, конфисковали в свою пользу остатки розового шампанского вкупе с благородными коньяками и старым «Марком», соблазняли красивых и готовых на все женщин на кражу бензиновых талонов, вытряхивали деньги из обалдевших бизнесменов – и были очень рады быстроте такси. Везде мы молниеносно завоевывали на свою сторону симпатии мэтров, сомелье и таксистов. Мы стали господами и властелинами наших ночей, в тьме которых лишь где-то вдали – так же далеко, как смутные очертания созвездия Скорпиона, – маячило на горизонте дымное светило Беверли-Уилшайер.
Дорогие мои! Все уже здесь! Приключения свисают с небес, как печеночные колбаски свисают со стен мясной лавки в караван-сараях Центрального парка. В воздухе пахло, клянусь вам, ворованным бензином, а снаружи был лес – я уже три года не видел осеннего леса, – он был прекрасен в своих коричневых, красных и золотых тонах. Мы* захватили с собой «Оспис де Бон» тридцать четвертого года, свиные котлеты одной югославки по имени Элизабет и немного сливовицы с партагасом. Со всем этим мы принялись замусоривать природу и славить Господа! Позже мы добрались до моря и остановились на берегу. Небо казалось нам шелковым, а на другой стороне лежала Европа, и у нас, благодарение Богу, еще оставалась сливовица. Мы охладили ее в Атлантике и пили ее, стоя в сумерках на берегу, охваченные ностальгией.
Здесь есть картины Рембрандта и Вермеера, я упился Ренуаром, да, к тому же в антикварном магазине «Таннхаузер» есть настоящий кюммель (ледяной кюммель, Франц!). Да, здесь были и Дега – настоящий ночной балет – и кружение прекрасного перед нашими изумленными глазами – Пикассо (между прочим), Сезанн, Писарро, Мане, Ван Гог, – и все это в готическом амстердамском доме посреди Нью-Йорка. Кюммель – крепкий, берлинский и очень холодный, а в полевом нашем штабе нас ждали, усыхая от тоски, очаровательные женщины, изнывающие по неопределенности. Пел Джек: дорогой друг, человек не хватает с неба звезд, он не Бетховен, его, Джека, любят, хотя и презирают за содержание. Короче, наконец пробило четыре утра.
Мои дорогие! Пакуйте чемоданы и бросайте к чертовой матери свой уютный дом, оставьте царственные деревья авокадо на попечение их плодов и приезжайте. На Двадцать первой живет любитель куропаток, а в «Шатобриане» можно выплакать благодарную радость, избавиться от неврастении – она улетучится, словно похмелье в турецкой бане. Здесь, клянусь вам. Вы станете на пару лет моложе, посвежеете от нашего изысканного комендантского часа*, мы очистимся в благодатном уединении – не будем напиваться до полусмерти, но просто кинем взгляд на здешнее общество.
Альма, обнимаю тебя! Франц, прижимаю тебя к сердцу! Снизойдите до пожатия моих мозолистых рук! Как же было хорошо у вас. Да не пропадет, но вырастет! Хороший фильм, сказал однажды знаток Сэм Голдвин, должен начинаться с землетрясения, а затем двигаться к кульминации. Не так уж он был и неправ.
Ваш
Асессор Алоиз Хорст фон Фельзенек.
Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю
Нью-Йорк, 24/25/26.07.1943
Мои дорогие!
Время летит неумолимо, только что свергли Муссолини – наверняка это прямое следствие политических усилий «ООО Томас Манн». Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как вы уехали. Небоскребы плавятся в июльской жаре, но я еще здесь и, видимо, не вернусь в Голливуд до ноября, потому что в ноябре суд будет рассматривать мои налоговые дела*. Тогда я побросаю в чемодан вино, шнапс и книги и полечу туда.
Почему? Ты все верно угадала, Альма! Ветер снова пахнет клубникой, на асфальте цветут камелии, горизонт поет, под истерически голубым небом всякий чувствует себя на восемнадцать лет и не растрачивает свое время на заточение чувств в книжные консервы (это не выпад против Францена!), а просто объедает свежие листья с куста. Для меня это необходимость, мои дорогие! Бог вознаградил меня за то, что я так долго, проявив неземное терпение, прожил с непрерывно что-то готовившим кухонным вампиром*. В этот первый год в Фони-вуде он наконец вытряхнул для меня что-то стоящее из своего флакона*. Свершилось! Аллилуйя!
От Францена я получаю деловые новости. Кажется, он раздобыл деньжат, и это хорошо! Это просто великолепно – знать, где можно жить, когда в дым разоришься. Допускаю, что у Людвига, Фейхтбакера*, Манна и других от зависти вылезет грыжа.
Спешу написать, чтобы ты, Альма, не пугалась: готова первая копия* моей книги. На шестиста пятидесяти страницах – больше, чем предполагалось.
Недавно мне в руки попало нечто просто неземное – старинные украшения: греческие, критские, египетские, кипрские, этрусские – кольца, серьги, цепочки, небесная филигрань, – приблизительно пятьдесят штук. Через полторы тысячи лет они снова соприкоснулись с теплой человеческой кожей. Я могу немного попридержать их у себя, чтобы показать вам – это золотая поэзия, и Франц, несомненно, сочинит стихи, как только все это увидит.
Часть моих картин уже здесь. Последние прибудут в конце июля, к осенней выставке*. Пока они здесь и освещают мое существование после полуторагодовой разлуки.
Как вам живется в вашем красивом доме? Прошу вас, выпейте сегодня за бессмертие души! Как это великолепно, что с каждым годом становишься моложе! В тяжелые времена веселье бережет нас! Веселье, что за чудесное слово! Такое же прекрасное, как спокойствие. Почти такое же красивое, как опьянение. Вот закон: цветовой спектр прошедших лет (и их опыт) не ослабляют силу лучей!
Мы должны быть молодыми, когда все это наконец пройдет! Молодыми и мудрыми! Ладно, я начинаю писать вздор. Прощайте, дорогие мои! Пишите!
Бони.
Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю
Нью-Йорк, март/апрель 1944
Мои дорогие!
Был рад узнать, что у Франца все налаживается! Я читал, будто он приглашен в какой-то фильм – и это еще лучше! Весна поможет ему своими подземными соками.
Я провел несколько прекрасных вечеров за чтением стихов Францена. Отыскал их в завале своих вещей и окунулся в них с головой. Наша родина теперь в книгах и сердцах, картинах и музыке – и так я провел в доме несколько вечеров наедине со стихами, наслаждаясь последней бутылкой 1921 хохаймера и сигарой. Ромео и Джульетта во второй вечер поставили что-то красивое в угол, где диван, и начали – Франц простит меня – переводить стихи. Они смогли придать очарование даже самым плохим импровизированным переводам. Это просто великолепное собрание.
Отвечаю на твои вопросы: однажды случайно встретил Марлен. Она превосходно разыграла эпизод из третьего акта драмы «Проводы уходящего на войну возлюбленного»*. Знаешь ли ты, что люди настолько стесняются того, чтобы принимать кого-либо более серьезно, чем симпатичную шлюшку, что просто не в состоянии прямо ему об этом сказать, и будет излишне, просто приторно мил, даже если испытывает к собеседнику непреодолимое отвращение? Вонь паблисити, мелкобуржуазный эксгибиционизм и фальшивые чувства, мнимая боль – все это бьет в нос, как спертый воздух из лавки старьевщика. Воздуха мне, Клавиго! Мелкий эгоизм отвратителен, особенно когда он пытается рядиться в одежды альтруизма.
Впрочем, зима была роскошной и солнечной, любовь витала* между небоскребами, а мы безмятежно наблюдали за вещами, на которые никак не могли повлиять – безмятежно, но не забывая, – кроме наблюдения были цветы, музыка, чувства. Мы понимали, что в глазах глубоких мыслителей это выглядело стыдно, но мы отчетливо понимали, что единственное, ради чего стоит стараться, это психически здоровым выбраться из этой катастрофы. Не стоит пытаться остановить лавину, но надо сохранять силы, чтобы позже выбраться из нее. Закалиться в огне сострадания и возмущения, чтобы стать твердым, как дамасская сталь, а не расплавиться, превратившись в бесполезные капли. Какое это старое, но вечно верное пожелание!
Какая жалость, что я не вижу сейчас вас обоих! Вы – это единственное, что помогает мне удерживаться на поверхности! Будет отлично, если вы приедете в Нью-Йорк в мае, здесь будет очень красиво!
Тысяча приветов, наилучшие пожелания и любовь вам обоим от преданного вам
Бони.
Альме Малер-Верфель
Нью-Йорк, сентябрь 1944
Дорогая Альма!
В последние месяцы я был занят тем, что продолжал марать бумагу последней книгой*, и это служит оправданием моему долгому молчанию. Я не любитель писать письма. Ты – единственный человек, с которым я, напрягая все свои силы, поддерживаю переписку. Мои домоправители в Швейцарии, мои тамошние друзья, адвокаты, налоговые инспектора и т.?д. не получали от меня ни единой строчки уже несколько лет. Я просто органически не могу писать. Пойми, прими, прости и продолжай любить меня дальше!
Не принимай всерьез эмигрантские сплетни. Они хуже и глупее, чем обычные базарные склоки. Эта вещица Францена* – блестящий успех, критики отнеслись к ней очень благосклонно, что еще нужно! Сам я считаю и хочу повторить еще раз, что «сотрудники»* ничуть не улучшили оригинал. Заключение Францена было лучше, а «сотрудники», на мой взгляд, представили Якобовского слишком умным.
Но все это уже давно прошедшее время, а дела идут дальше. Сражение развернулось уже на линии Зигфрида, мир скоро снова станет открытым, и мы дружной толпой ввалимся в него, а это самое главное!
Насчет Францена я слышал, что ему стало лучше. Я кое-что почитал о сердечных болезнях и узнал, что надо спокойно работать дальше, не давая себе слишком много отдыхать. Это успокоило меня, ибо я понимаю, что он уже снова пишет.
Возвращаю тебе письмо Цокора*. Он написал и мне, в мае 1944 года; тогда его адрес был:
H.Q.G. «Polindep» Unit
C.M.F., Europe
Что сталось с ним дальше?
Когда вы приедете в Нью-Йорк? Я страшно по вам скучаю. Октябрь здесь просто великолепен. Перемена атмосферы (без «Одетс и Берман») будет полезной для Францена, как мне думается. Я на это время брошу курить и пить. Без этого можно вполне обойтись.
Как выныривают, милостивая госпожа, из неистовой смеси водки, рома и грозовой ночи (в волосах остатки кошмаров, в брюхе бромо-зельцеровская вода, в душе ощущение проходящего хаоса), просыпаясь либо друзьями на всю жизнь, либо вечными врагами – кто знает исход? Слава богу, в нас осталось еще так много дикости!
Посылаю Вам из своих сокровенных жидких запасов завернутую в цветы бутылку русской водки – как план войны, завернутый в бумажку с мирным договором, – с величайшим почтением.
Мы салютуем Вам, герцогиня, поднимая полные стаканы в Вашу честь после того, как Вы нас покинули. Мы испытываем к Вам то почтение, какое волки питают к львицам.
Салют! Вам и Верфелю —
Ваш
Эрих Мария Ремарк.
Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю
Нью-Йорк, ноябрь 1942 года
Мы превратили комнату шампанского (так это теперь называется) ресторанчика «Эль-Мароккос», где обосновался наш любимый венский музыкант, в наш любимый полевой штаб, откуда методически и энергично, вооружив каждого второго сигарой и цимбалами комнаты грез «Монте-Карло», ринулись в Гарлем, Чайнатаун, Бруклин – обжираться в чешских, еврейских и французских ресторанах, где удостоверили высочайшие питейные качества столицы и потребовали мозельское урожая тридцать седьмого года, веленерские солнечные часы, конфисковали в свою пользу остатки розового шампанского вкупе с благородными коньяками и старым «Марком», соблазняли красивых и готовых на все женщин на кражу бензиновых талонов, вытряхивали деньги из обалдевших бизнесменов – и были очень рады быстроте такси. Везде мы молниеносно завоевывали на свою сторону симпатии мэтров, сомелье и таксистов. Мы стали господами и властелинами наших ночей, в тьме которых лишь где-то вдали – так же далеко, как смутные очертания созвездия Скорпиона, – маячило на горизонте дымное светило Беверли-Уилшайер.
Дорогие мои! Все уже здесь! Приключения свисают с небес, как печеночные колбаски свисают со стен мясной лавки в караван-сараях Центрального парка. В воздухе пахло, клянусь вам, ворованным бензином, а снаружи был лес – я уже три года не видел осеннего леса, – он был прекрасен в своих коричневых, красных и золотых тонах. Мы* захватили с собой «Оспис де Бон» тридцать четвертого года, свиные котлеты одной югославки по имени Элизабет и немного сливовицы с партагасом. Со всем этим мы принялись замусоривать природу и славить Господа! Позже мы добрались до моря и остановились на берегу. Небо казалось нам шелковым, а на другой стороне лежала Европа, и у нас, благодарение Богу, еще оставалась сливовица. Мы охладили ее в Атлантике и пили ее, стоя в сумерках на берегу, охваченные ностальгией.
Здесь есть картины Рембрандта и Вермеера, я упился Ренуаром, да, к тому же в антикварном магазине «Таннхаузер» есть настоящий кюммель (ледяной кюммель, Франц!). Да, здесь были и Дега – настоящий ночной балет – и кружение прекрасного перед нашими изумленными глазами – Пикассо (между прочим), Сезанн, Писарро, Мане, Ван Гог, – и все это в готическом амстердамском доме посреди Нью-Йорка. Кюммель – крепкий, берлинский и очень холодный, а в полевом нашем штабе нас ждали, усыхая от тоски, очаровательные женщины, изнывающие по неопределенности. Пел Джек: дорогой друг, человек не хватает с неба звезд, он не Бетховен, его, Джека, любят, хотя и презирают за содержание. Короче, наконец пробило четыре утра.
Мои дорогие! Пакуйте чемоданы и бросайте к чертовой матери свой уютный дом, оставьте царственные деревья авокадо на попечение их плодов и приезжайте. На Двадцать первой живет любитель куропаток, а в «Шатобриане» можно выплакать благодарную радость, избавиться от неврастении – она улетучится, словно похмелье в турецкой бане. Здесь, клянусь вам. Вы станете на пару лет моложе, посвежеете от нашего изысканного комендантского часа*, мы очистимся в благодатном уединении – не будем напиваться до полусмерти, но просто кинем взгляд на здешнее общество.
Альма, обнимаю тебя! Франц, прижимаю тебя к сердцу! Снизойдите до пожатия моих мозолистых рук! Как же было хорошо у вас. Да не пропадет, но вырастет! Хороший фильм, сказал однажды знаток Сэм Голдвин, должен начинаться с землетрясения, а затем двигаться к кульминации. Не так уж он был и неправ.
Ваш
Асессор Алоиз Хорст фон Фельзенек.
Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю
Нью-Йорк, 24/25/26.07.1943
Мои дорогие!
Время летит неумолимо, только что свергли Муссолини – наверняка это прямое следствие политических усилий «ООО Томас Манн». Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как вы уехали. Небоскребы плавятся в июльской жаре, но я еще здесь и, видимо, не вернусь в Голливуд до ноября, потому что в ноябре суд будет рассматривать мои налоговые дела*. Тогда я побросаю в чемодан вино, шнапс и книги и полечу туда.
Почему? Ты все верно угадала, Альма! Ветер снова пахнет клубникой, на асфальте цветут камелии, горизонт поет, под истерически голубым небом всякий чувствует себя на восемнадцать лет и не растрачивает свое время на заточение чувств в книжные консервы (это не выпад против Францена!), а просто объедает свежие листья с куста. Для меня это необходимость, мои дорогие! Бог вознаградил меня за то, что я так долго, проявив неземное терпение, прожил с непрерывно что-то готовившим кухонным вампиром*. В этот первый год в Фони-вуде он наконец вытряхнул для меня что-то стоящее из своего флакона*. Свершилось! Аллилуйя!
От Францена я получаю деловые новости. Кажется, он раздобыл деньжат, и это хорошо! Это просто великолепно – знать, где можно жить, когда в дым разоришься. Допускаю, что у Людвига, Фейхтбакера*, Манна и других от зависти вылезет грыжа.
Спешу написать, чтобы ты, Альма, не пугалась: готова первая копия* моей книги. На шестиста пятидесяти страницах – больше, чем предполагалось.
Недавно мне в руки попало нечто просто неземное – старинные украшения: греческие, критские, египетские, кипрские, этрусские – кольца, серьги, цепочки, небесная филигрань, – приблизительно пятьдесят штук. Через полторы тысячи лет они снова соприкоснулись с теплой человеческой кожей. Я могу немного попридержать их у себя, чтобы показать вам – это золотая поэзия, и Франц, несомненно, сочинит стихи, как только все это увидит.
Часть моих картин уже здесь. Последние прибудут в конце июля, к осенней выставке*. Пока они здесь и освещают мое существование после полуторагодовой разлуки.
Как вам живется в вашем красивом доме? Прошу вас, выпейте сегодня за бессмертие души! Как это великолепно, что с каждым годом становишься моложе! В тяжелые времена веселье бережет нас! Веселье, что за чудесное слово! Такое же прекрасное, как спокойствие. Почти такое же красивое, как опьянение. Вот закон: цветовой спектр прошедших лет (и их опыт) не ослабляют силу лучей!
Мы должны быть молодыми, когда все это наконец пройдет! Молодыми и мудрыми! Ладно, я начинаю писать вздор. Прощайте, дорогие мои! Пишите!
Бони.
Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю
Нью-Йорк, март/апрель 1944
Мои дорогие!
Был рад узнать, что у Франца все налаживается! Я читал, будто он приглашен в какой-то фильм – и это еще лучше! Весна поможет ему своими подземными соками.
Я провел несколько прекрасных вечеров за чтением стихов Францена. Отыскал их в завале своих вещей и окунулся в них с головой. Наша родина теперь в книгах и сердцах, картинах и музыке – и так я провел в доме несколько вечеров наедине со стихами, наслаждаясь последней бутылкой 1921 хохаймера и сигарой. Ромео и Джульетта во второй вечер поставили что-то красивое в угол, где диван, и начали – Франц простит меня – переводить стихи. Они смогли придать очарование даже самым плохим импровизированным переводам. Это просто великолепное собрание.
Отвечаю на твои вопросы: однажды случайно встретил Марлен. Она превосходно разыграла эпизод из третьего акта драмы «Проводы уходящего на войну возлюбленного»*. Знаешь ли ты, что люди настолько стесняются того, чтобы принимать кого-либо более серьезно, чем симпатичную шлюшку, что просто не в состоянии прямо ему об этом сказать, и будет излишне, просто приторно мил, даже если испытывает к собеседнику непреодолимое отвращение? Вонь паблисити, мелкобуржуазный эксгибиционизм и фальшивые чувства, мнимая боль – все это бьет в нос, как спертый воздух из лавки старьевщика. Воздуха мне, Клавиго! Мелкий эгоизм отвратителен, особенно когда он пытается рядиться в одежды альтруизма.
Впрочем, зима была роскошной и солнечной, любовь витала* между небоскребами, а мы безмятежно наблюдали за вещами, на которые никак не могли повлиять – безмятежно, но не забывая, – кроме наблюдения были цветы, музыка, чувства. Мы понимали, что в глазах глубоких мыслителей это выглядело стыдно, но мы отчетливо понимали, что единственное, ради чего стоит стараться, это психически здоровым выбраться из этой катастрофы. Не стоит пытаться остановить лавину, но надо сохранять силы, чтобы позже выбраться из нее. Закалиться в огне сострадания и возмущения, чтобы стать твердым, как дамасская сталь, а не расплавиться, превратившись в бесполезные капли. Какое это старое, но вечно верное пожелание!
Какая жалость, что я не вижу сейчас вас обоих! Вы – это единственное, что помогает мне удерживаться на поверхности! Будет отлично, если вы приедете в Нью-Йорк в мае, здесь будет очень красиво!
Тысяча приветов, наилучшие пожелания и любовь вам обоим от преданного вам
Бони.
Альме Малер-Верфель
Нью-Йорк, сентябрь 1944
Дорогая Альма!
В последние месяцы я был занят тем, что продолжал марать бумагу последней книгой*, и это служит оправданием моему долгому молчанию. Я не любитель писать письма. Ты – единственный человек, с которым я, напрягая все свои силы, поддерживаю переписку. Мои домоправители в Швейцарии, мои тамошние друзья, адвокаты, налоговые инспектора и т.?д. не получали от меня ни единой строчки уже несколько лет. Я просто органически не могу писать. Пойми, прими, прости и продолжай любить меня дальше!
Не принимай всерьез эмигрантские сплетни. Они хуже и глупее, чем обычные базарные склоки. Эта вещица Францена* – блестящий успех, критики отнеслись к ней очень благосклонно, что еще нужно! Сам я считаю и хочу повторить еще раз, что «сотрудники»* ничуть не улучшили оригинал. Заключение Францена было лучше, а «сотрудники», на мой взгляд, представили Якобовского слишком умным.
Но все это уже давно прошедшее время, а дела идут дальше. Сражение развернулось уже на линии Зигфрида, мир скоро снова станет открытым, и мы дружной толпой ввалимся в него, а это самое главное!
Насчет Францена я слышал, что ему стало лучше. Я кое-что почитал о сердечных болезнях и узнал, что надо спокойно работать дальше, не давая себе слишком много отдыхать. Это успокоило меня, ибо я понимаю, что он уже снова пишет.
Возвращаю тебе письмо Цокора*. Он написал и мне, в мае 1944 года; тогда его адрес был:
H.Q.G. «Polindep» Unit
C.M.F., Europe
Что сталось с ним дальше?
Когда вы приедете в Нью-Йорк? Я страшно по вам скучаю. Октябрь здесь просто великолепен. Перемена атмосферы (без «Одетс и Берман») будет полезной для Францена, как мне думается. Я на это время брошу курить и пить. Без этого можно вполне обойтись.