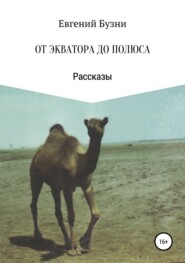По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пером по шапкам. Книга вторая. Жизнь без политики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованые копыта. И вдруг на перекрёстке – пулемёт, прямо посреди дороги, и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырёхугольных конфедератках. Четвёртый, с золотым жгутом змеёй на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперёд руку с маузером.
Ни Топтало, ни Павел не могли сдержать коней и прямо в когти смерти рванули на пулемёт. Офицер выстрелил в Корчагина… Мимо… Воробьём чиркнула пуля у щеки, и, отброшенный грудью лошади, поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь.
В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша, пулемёт. И упал Топтало вместе с вороным, ужаленный десятком шмелей.
Вздыбился конь Павла, испуганно храпя, рывком перенёс седока через упавших, прямо на людей у пулемёта, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки.
Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову. Но горячий конь отпрянул в сторону.
Словно бешеная горная река, вылился на перекрёсток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе».
Читаешь эти строки сегодня и кажется, что это ополченцы наступают на украинскую армию, только вместо коней у них бронетранспортёры, а вместо сабель гранатомёты, и сражаются они не за Житомир и Бердичев, а на окраинах Донецка, Луганска, Мариуполя, и не ошеломлённые поляки бегут, почти не оказывая сопротивление, а поддерживаемые морально поляками украинские войска отступают, бросая на поле боя тяжёлую бронетехнику. И это наступающие ополченцы, уверенные в своей победе и в правоте своего дела, кричат запальчиво, как некогда Павка Корчагин слово «Даёшь!», только добавляя при этом «Даёшь свободный Донбасс!», «Даёшь Новороссию!»
А что же по другую сторону линии фронта? Плохо обученные юнцы, воспитанные уже в постперестроечное время на американских боевиках и страшилках, без какой-либо здравой идеи в головах, за спинами которых у них дома матери, голосящие на площадях о немедленном возвращении отправленных на фронт сыновей. Эти юнцы готовы легко всё бросить, лишь бы не видеть так непохожие на телеэкранные картинки ужасы настоящей войны, и бежать, куда глаза глядят. Порой даже грозные приказы о расстреле за дезертирство не останавливают, и они сдаются, уходя в спасительную Россию. Только частные вооружённые силы, набранные за большие деньги из люто ненавидящих русского человека украинских националистов, упорствуют, продолжая убивать и насиловать, зверски истязать, подражая немецким фашистам прошлой войны. Именно о таких людях писал Николай Островский в своём письме товарищу по партии А. Жигиревой 26 ноября 1926 года: «Это шкурники, жестокие люди, один из них отличался потому, что хорошо рубал головы, хорошо, не разбираясь за что. Это я могу говорить, так как сам участвовал в 1920 году в усмирении их шестой дивизии, восставшей против советов при наступлении на Варшаву».
Об этой 6-й дивизии так писалось в книге бывшего начальника политуправления Конармии И. Вардина "Ворошилов – рабочий вождь Красной Армии", вышедшей в 1926 году: «Начиная с средних чисел сентября, после рейда на Замостье, уставшая, измученная, ослабленная конная армия частями отводится в тыл для влития пополнения, для приведения в порядок. Фактически лишь в начале октября последние части конармии отрываются от неприятеля и уходят в тыл.
И здесь наступает период тяжёлого внутреннего кризиса. Порядок и дисциплина, установленные в условиях боевой жизни, сразу ослабевают; шкурнические, бандитские, провокаторские элементы поднимают голову. Возникает опасность разложения армии…
Боец конной армии, случалось, присваивал чужую «собственность», в особенности, когда он неделями не получал снабжения. Против этого нужно было бороться, чтобы «присвоение» не вышло из рамок «естественной нормы», чтобы оно не превратилось в цель и главное занятие.
В рассматриваемый нами период в конной армии, в особенности в шестой дивизии, выплыл наверх слой, который именно пытался из грабежа сделать главное занятие. Шестая дивизия – наиболее крупная по численности и наименее сильная политически – дольше всех других частей оставалась на позиции и больше всех была оторвана от центра армии.
… Шестая дивизия совершила ряд тяжких преступлений. В 31 полку был убит военкомдив т. Шепелев, застреливший бандита. Она устроила ряд погромов. Но где, какие именно, в точности никто не знает. Не подлежит лишь сомнению, что именем шестой дивизии злоупотребляли обычные украинские банды…»
Как это всё напоминает действия украинских боевиков сегодня на Донбассе, где при плохом снабжении армии, при плохом питании солдат происходят грабежи населения, убийства при зачистке захватываемых городов и населённых пунктов. Один из подобных эпизодов описывается Николаем Островским в восьмой главе «Как закалялась сталь», где молодой боец Павел Корчагин слушает у костра рассказ бывалого красноармейца Андрощука:
«Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнёс:
-Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Порайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь – никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата.
Помешал ложкой в котелке, вытянув губы, попробовал из ложки чай и продолжал:
– А смерть бывает и собачья. Мутная смерть, без почёта. Когда у нас бой под Изяславлем шёл, город такой старинный, ещё при князьях строился. На реке Горынь. Есть там польский костёл, как крепость, без приступу. Ну, так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе, глядь, стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны, под сёдлами.
Ну, мы, понятное дело, думаем: застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворик кинулись. Впереди с маузерищем прёт командир роты ихней, латышской.
До дому дорвались, дверь открыта. Мы – туда. Думали – поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невесёлое дело. Факт налицо: женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш, как это всё увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлёпнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнища, морда кирпича просит, не даётся, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.
Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернётся, так я пожалел за свои слова. Глаза у него как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьёт без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберёшь: «Кровью знамя крашено, а эти – позор всей армии. Бандит смертью платит».
Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали, народ сбродный.
Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом.
– Замотается меж нас такая дрянь. Недосмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду, – закончил он, принимаясь за чай».
Читаешь эти строки книги и думаешь: может быть, меньше было бы насилий на Украине и лучше бы понимали молодые украинские солдаты, что такое настоящий героизм, если бы изучали в школе Николая Островского, украинского, между прочим, писателя, у которого, кстати, одну треть рукописи романа редакторы не опубликовали. Неопубликованными оказались и страницы с описанием спора бойцов за костром по поводу расстрела без суда и следствия. Между тем, именно эти жизненные разногласия, правдиво описанные писателем, лишний раз убедительно доказывают справедливость товарищеского суда в чрезвычайных ситуациях, когда речь идёт о насилии. Вот как комментировали бойцы расстрел в неопубликованном варианте книги:
« – Но это чересчур – подал голос Матвичук, – чтобы из-за бабы бойцов истреблять? Это я несогласный. Можно и наказание придумать. Это латыш у тебя тоже пули просит. Подумаешь, какое несчастье! Офицерскую жёнку обидели. Кабы нашу какую, ну туда-сюда. А то, что ж мы, не люди что ли? По свету кой год шатаемся, от дому отбились. Сголодались до краю без женского внимания. А тут на тебе! Чуть тронул, в «штаб Духонина». Это знаешь ли к чертям!
Матвичук обвёл всех взглядом, ища сочувствия, но взгляды всех были устремлены в огонь. И наталкиваясь на глаза Пузыревского, слегка прищуренные, его изучающие, Матвичук осёкся.
– Конечно, отвечать должон, но не так.
К нему повернулся Середа.
– А мне этих совсем не жаль, – начал он резко. – Тебе это, конечно, не с руки, ты с бабами иное отношение имеешь. У тебя и прохвессия эта, как поберушка. Везде урвёшь, где плохо лежит. Таких артистов только страхом и держать. А то дай волю – не одна заплачет.
Матвичук озлился:
– Ну, ты, репа черниговская, разиндючился. Свою сознательность показываешь. Тоже комиссар нашёлся.
Разнимая их, Андрощук командовал:
– Наступай на чай, ребята, прекращай агитацию, Середа.
Из круга потянулись руки к чайнику. Стучали вынимаемые чашки. И вскоре послышалось аппетитное сербание и крепкие челюсти заработали. Но Середа всё ещё пытался дать Матвичуку отбой и вперемежку с чаепитием возвращался к прерванной теме:
– Дивчина, аль баба ласку любит. От ней ответ получить можно и без бандитизма. Только надо по душевному. У них ведь тоже понятие есть. Народ за войну с толку сбился: бабы без мужей, мужики без баб. Да и девчата на раздорожьи. И ни к чему здесь нахальничать, али обижать. Ежели ты парень неплохой, то всегда и накормит, а то и в мужья приймет.
Матвичук презрительно тюкнул:
– Довольно, слыхали. Где ты этой морали нахватался? Настоящий прохвесор. Замолол как тот оратель, дивизионный «борьба с борьбой борьбится, борьба борьбу борьбёт».
Прекратились голоса лишь поздней ночью. Выводит трели носом уснувший Середа. Спал, положа голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то своё в записную книжку Крамер.
Конная разведка полка спала».
Николай Алексеевич Островский родился сто десять лет назад, 29 сентября 1904 года, в украинском городе Шепетовка, а писателем стал в тридцать лет в Москве. Потерявший зрение, прикованный к постели, почти полностью неподвижный, но необыкновенно сильный духом он писал свою книгу сначала вслепую разбегающимися по бумаге в разные стороны строчками, затем по вырезанному для него трафарету выравнивавшему строки, и, наконец, диктовал мысли добровольным помощникам, а те добросовестно писали и переписывали, печатали на пишущей машинке и отсылали первые главы на рецензию друзьям и в редакции журналов «Красная новь» и «Молодая гвардия». Не сразу, но книга «Как закалялась сталь» обрела бешеную популярность, была переведена на 75 языков мира, облетела весь земной шар, а её автор стал символом преодоления трудностей, невзгод и болезней. Да, конечно, этому способствовал опубликованный в газете «Правда» очерк М. Кольцова о писателе, в котором он обрисовал увиденного им человека:
«Николай Островский лежит на спине плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обёрнуто кругом длинного, тонкого, прямого столба, его тела, как постоянный, неснимаемый футляр. Мумия.
Но в мумии что-то живёт. Да. Тонкие кисти рук – только кисти – чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии».
Читателя тронуло то, что эта «Мумия» написала книгу. Но ведь дело было не только в самом писателе, которого не сломила болезнь. Дело было и в герое его книги Павле Корчагине, которого не случайно читатель отождествлял с автором, хотя сам писатель в письме в «Литературную газету» 11.04.35 писал:
«…решительно протестую против отождествления меня – автора романа «Как закалялась сталь» с одним из действующих лиц этого романа – Павлом Корчагиным.
Я написал роман. И задачи критиков показать его недостатки и достоинства, определить, служит ли эта книга делу большевистского воспитания нашей молодёжи».
Но читатель не хотел ему верить, когда читал, например, в девятой главе дневниковую запись врача о пациенте Корчагине, попавшему в военный госпиталь после ранения:
«Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас, врачей, поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненый переносит перевязки.
Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит и, когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается как струна. Часто теряет сознание, но вообще за весь период ни одного стона.
Уже все знают: если Корчагин стонет, значит, потерял сознание. Откуда у него это упорство? Не знаю».