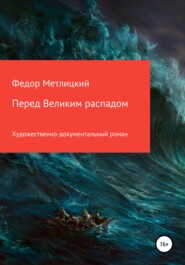По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай, ты будешь Мальвиной, а я папой Карло. Мы идем к маме через горы и долы, и дорога идет через райские лужайки и темные грозные леса.
– Вот райская лужайка!
Светка влезла в цветущую неведомыми цветами поляну, словно плывущую в небе.
– Что это? Одуванчик? А это? Сорняк? Папа, сорняк хочешь? Сейчас принесу…
Собирали желтые одуванчики и куриную слепоту. Светка старалась собрать все цветы.
Лежали в траве. Я голой спиной на влажной траве, так, что спина чесалась. Светка прислонилась ко мне, я прикрывал ее от солнца ладонью. Небо грозовой синевы, и края облачков тают.
Еле доволоклись до страшного переезда. Она устала. Я нес ее, касаясь щечки и слыша ее дыхание. Та вдруг увидела калитку, узнала место и забилась.
– Пойдем назад, куда ты! Мы же к маме идем!
– Скоро будет ночь, а в ней могут быть опасные звери. Отдохнем, и снова пойдем к маме. Кстати, тебя Баська ждет.
Пошел, и она, подвывая, увязалась за мной.
Вечернее солнце наводило на мысли, что мы остались одни. Одни в мироздании, и почему-то было одиноко. Я весело смотрел на Свету, чтобы ей не передалась моя тоска. Дома она тискала кота, и внезапно заскучала.
– Не хочу здесь быть. Не играешь со мной. С тобой плохо.
– Это с Веней-то плохо?
– Нет, но ты же один. А я хочу с папой и с мамой. А ты не уедешь сегодня?
Она словно нащупывает границы любви, вне которой ее нет.
– Пап! А что тебе здесь нужно?
– Где?
– Тебе-е здесь. Почему ты хочешь только у меня сидеть, почему не хочешь у других?
– Потому что ты моя дочка.
– Еще раз скажи, непонятно. А почему же мама не сидит около меня?
– Не задавай глупые вопросы. Работает.
– А ты? В отпуске? А я тоже в отпуске, да? В садике не сижу? Очень глупо. Я уже в школе учусь.
Лежит в своем углу и возит пяткой по проолифленной стене. Стало жалко ее, одну в полутьме, на отшибе, и больно почувствовал, ведь, она моя доченька. Стал целовать в гладкую щечку, укладывая в кроватку.
Вышел еще раз в сад ночью, чтобы до конца ощутить одиночество, нюхал маттиолы.
Тьма в саду. В глазах вспыхивают пятна. Над черными изломами яблонь – звезды. Яркое пятно света на листве, такое яркое, что и не разобрать листвы. Что-то зашумело в кустах – мгновенно стянулась кожа головы, и отлило от кожи вглубь тела. Фу, ты, черт, стой, и не улепетывай за дверь! Даже если черная тень покажется. Сам испугался, как в сказке Света.
В постели читал записки Межелайтиса в "Знамени", о человеке "хозяине" над природой. Чепуха. Хозяин красоты – это бессмыслица.
____
Плохая ночь прошла, и мы покатили на велосипеде "Волшебнике" за околицу, который нес нас бережно, как на ладонях. До поезда мамы было еще много времени.
Света сидела впереди между моими руками, на подушечке соструганного мной надежного деревянного стульчика. Дорога к маме присыпана пылью, так, что не знаешь, проедет ли колесо или погрузимся по вилку. С обочин – полегшая усатая пшеница, седая от пыли, уже зажелтевшее поле.
– Хорошо тебе? – машинально спрашиваю сидящую впереди дочку, неудовлетворенно оглядывая поля, и тихий лес вдали. – Попа не устала, не больно?
Справа щедро клубятся яблони в саду. Света оживляется, поднимается и трясет "Волшебника".
Въехали в раскрытую, как сказочная распахнутая тетка, деревеньку, где раскрыты двери, и домашняя суета. По улице лениво бредут добрые мычащие коровы
Светка поражала меня своей логикой:
– А как же корова ходит, когда от нее отрезают кусок и продают мясо? У нее опять отрастает все?
– Она потом не может жить.
– Как же это?
Это убеждение в бессмертии – недавно рожденного существа, еще не чувствующего времени и невообразимой дали конца.
Быстренько и опасливо минуем недовольно клохчущих кур у плетня. Света затрясла "Волшебник".
– Не хочу наших кур есть – они ходят по земле. А импортные, да, бройлерные, – в клетках, над землей, и не знают, что они куры. Их не жалко есть.
Выехали на шоссе, оставив отрастивших мяса коров и несъедобных кур, и покатили к кладбищу – в тихой рощице средь полей у деревни. Там тихо шелестела от ветра листва нетронутых деревьев, словно мертвые тихо шепчутся о вечном. Другой мир, тихо живущий в самом себе. Ходили среди могил с горестно покосившимися крестами и новенькими обелисками со звездой наверху.
– Тут люди умершие лежат, глубоко под землей. Под этими кучами земли.
– А почему они не выйдут? Можно я их потрогаю, мертвых?
– Они глубоко, не достанешь. Они там пластом лежат, и не могут выйти, они умерли.
– А кто тут лежит? А тут? Родственники знают? Какие родственники?.. А мы сюда не ляжем? Мы, ведь, не умерли, да?
Нарвали васильков в пшенице, срезали голову подсолнуха – для мамы, и покатили – к лесу, мягко проскакивая через клоки черного прошлогоднего сена на дороге.
Вот и лес, какая-то военная часть здесь стоит. Там нет солнца, высоченные березы и осины с гладкими хинными стволами, странные цветы, и загадочный сумрак глубин, где, наверно, много грибов, и нехожено.
Остановились у колючей проволоки, запретная зона.
– Здесь живет Карабас Барабас! – сказал я страшным голосом, – сейчас может наброситься на Мальвину.
И мы с визжащей Светой в испуге срочно покатили по петляющей дороге, с поворотами, за которыми таятся неведомые угрозы. Она суетилась между моими руками.
– Ты что, Света?
– Вот райская лужайка!
Светка влезла в цветущую неведомыми цветами поляну, словно плывущую в небе.
– Что это? Одуванчик? А это? Сорняк? Папа, сорняк хочешь? Сейчас принесу…
Собирали желтые одуванчики и куриную слепоту. Светка старалась собрать все цветы.
Лежали в траве. Я голой спиной на влажной траве, так, что спина чесалась. Светка прислонилась ко мне, я прикрывал ее от солнца ладонью. Небо грозовой синевы, и края облачков тают.
Еле доволоклись до страшного переезда. Она устала. Я нес ее, касаясь щечки и слыша ее дыхание. Та вдруг увидела калитку, узнала место и забилась.
– Пойдем назад, куда ты! Мы же к маме идем!
– Скоро будет ночь, а в ней могут быть опасные звери. Отдохнем, и снова пойдем к маме. Кстати, тебя Баська ждет.
Пошел, и она, подвывая, увязалась за мной.
Вечернее солнце наводило на мысли, что мы остались одни. Одни в мироздании, и почему-то было одиноко. Я весело смотрел на Свету, чтобы ей не передалась моя тоска. Дома она тискала кота, и внезапно заскучала.
– Не хочу здесь быть. Не играешь со мной. С тобой плохо.
– Это с Веней-то плохо?
– Нет, но ты же один. А я хочу с папой и с мамой. А ты не уедешь сегодня?
Она словно нащупывает границы любви, вне которой ее нет.
– Пап! А что тебе здесь нужно?
– Где?
– Тебе-е здесь. Почему ты хочешь только у меня сидеть, почему не хочешь у других?
– Потому что ты моя дочка.
– Еще раз скажи, непонятно. А почему же мама не сидит около меня?
– Не задавай глупые вопросы. Работает.
– А ты? В отпуске? А я тоже в отпуске, да? В садике не сижу? Очень глупо. Я уже в школе учусь.
Лежит в своем углу и возит пяткой по проолифленной стене. Стало жалко ее, одну в полутьме, на отшибе, и больно почувствовал, ведь, она моя доченька. Стал целовать в гладкую щечку, укладывая в кроватку.
Вышел еще раз в сад ночью, чтобы до конца ощутить одиночество, нюхал маттиолы.
Тьма в саду. В глазах вспыхивают пятна. Над черными изломами яблонь – звезды. Яркое пятно света на листве, такое яркое, что и не разобрать листвы. Что-то зашумело в кустах – мгновенно стянулась кожа головы, и отлило от кожи вглубь тела. Фу, ты, черт, стой, и не улепетывай за дверь! Даже если черная тень покажется. Сам испугался, как в сказке Света.
В постели читал записки Межелайтиса в "Знамени", о человеке "хозяине" над природой. Чепуха. Хозяин красоты – это бессмыслица.
____
Плохая ночь прошла, и мы покатили на велосипеде "Волшебнике" за околицу, который нес нас бережно, как на ладонях. До поезда мамы было еще много времени.
Света сидела впереди между моими руками, на подушечке соструганного мной надежного деревянного стульчика. Дорога к маме присыпана пылью, так, что не знаешь, проедет ли колесо или погрузимся по вилку. С обочин – полегшая усатая пшеница, седая от пыли, уже зажелтевшее поле.
– Хорошо тебе? – машинально спрашиваю сидящую впереди дочку, неудовлетворенно оглядывая поля, и тихий лес вдали. – Попа не устала, не больно?
Справа щедро клубятся яблони в саду. Света оживляется, поднимается и трясет "Волшебника".
Въехали в раскрытую, как сказочная распахнутая тетка, деревеньку, где раскрыты двери, и домашняя суета. По улице лениво бредут добрые мычащие коровы
Светка поражала меня своей логикой:
– А как же корова ходит, когда от нее отрезают кусок и продают мясо? У нее опять отрастает все?
– Она потом не может жить.
– Как же это?
Это убеждение в бессмертии – недавно рожденного существа, еще не чувствующего времени и невообразимой дали конца.
Быстренько и опасливо минуем недовольно клохчущих кур у плетня. Света затрясла "Волшебник".
– Не хочу наших кур есть – они ходят по земле. А импортные, да, бройлерные, – в клетках, над землей, и не знают, что они куры. Их не жалко есть.
Выехали на шоссе, оставив отрастивших мяса коров и несъедобных кур, и покатили к кладбищу – в тихой рощице средь полей у деревни. Там тихо шелестела от ветра листва нетронутых деревьев, словно мертвые тихо шепчутся о вечном. Другой мир, тихо живущий в самом себе. Ходили среди могил с горестно покосившимися крестами и новенькими обелисками со звездой наверху.
– Тут люди умершие лежат, глубоко под землей. Под этими кучами земли.
– А почему они не выйдут? Можно я их потрогаю, мертвых?
– Они глубоко, не достанешь. Они там пластом лежат, и не могут выйти, они умерли.
– А кто тут лежит? А тут? Родственники знают? Какие родственники?.. А мы сюда не ляжем? Мы, ведь, не умерли, да?
Нарвали васильков в пшенице, срезали голову подсолнуха – для мамы, и покатили – к лесу, мягко проскакивая через клоки черного прошлогоднего сена на дороге.
Вот и лес, какая-то военная часть здесь стоит. Там нет солнца, высоченные березы и осины с гладкими хинными стволами, странные цветы, и загадочный сумрак глубин, где, наверно, много грибов, и нехожено.
Остановились у колючей проволоки, запретная зона.
– Здесь живет Карабас Барабас! – сказал я страшным голосом, – сейчас может наброситься на Мальвину.
И мы с визжащей Светой в испуге срочно покатили по петляющей дороге, с поворотами, за которыми таятся неведомые угрозы. Она суетилась между моими руками.
– Ты что, Света?