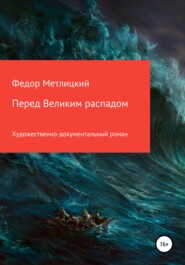По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сколько стоит 4-копеечная монета?
– Три копейки.
– Сколько концов у двух палочек?
– Пять.
– А у полпалочки сколько?
–Один.
– Ну, как же?
В дочке не было преграды, ничего отчужденного, она была сама доверчивость, как у меня в младенчестве, когда везли закутанного на санках в больницу.
____
После полудня мои родные пришли с занятий. Пока дочка раздевалась, хмурая Катя сказала:
– Два по ритмике. Учительница говорит: "Очень плохо, никакой координации. Просто машет руками, и нет ни малейшего внимания". Вышла из класса, а какой-то мальчик: "Вот эта девочка двойку получила". Та вся поджалась. Что делать?
Я вскипал, и к Светке:
– Мама… сил не жалеет. А ты… Ешь сейчас же!
– Сам ешь.
– Пре-кра-ти!
– Сам пре-кра-ти.
– Она не виновата! – останавливала меня мама. – Не говори ей ничего, слышишь? Не злись. Ведь это у нее детство такое. Нервная система, и что-то с головой не в порядке. Как у тебя. И ты не виноват.
Вечером были с Катей на концерте югославского певца Марьяновича, оставив дочку на тещу.
Когда пришли домой, она была грустна.
– Нравится мне его темперамент, талантливость. Он скребет душу. Я приподнималась на месте, когда он пел про слепого. Обаятелен, и руки так точны, выразительны! За ним каждая пошла бы.
Во мне снова промелькнула боль. Она меня не любит.
А она продолжала и продолжала:
– Русские могут в душе быть хорошими, но все равно – хамы. А немец хоть и подлец в душе, но дает женщине то, что она жаждет – хоть по форме, но заботу о женщине.
***
Когда я узнал, что моя мать заболела, срочно уехал в городок Арсеньев, где жили родители.
Увидев меня, худой изможденный отец в седой щетине зарыдал, уткнувшись в мое плечо.
Пошел в больницу – там вдруг: Клава умерла, только что… Подождите, сейчас нельзя…
Пошел без оглядки. Дома хлопотливые тетки, зарыдавший отец. Они об отце – разное, как почти не отходил от гроба матери, не давая себя сменить: "Нет, я ее язык изучил, лучше понимаю ее". И как хотел похоронить за счет столовой, где мать работала.
Витя говорил об отце, лежавшем сутки, когда мать в морге разлагалась. У него, мол, температура, отстаньте… А когда мать заболела: "Пусть лучше мать умрет, чем мне с ней – калекой. Как я ее потащу, если выживет? Я сам больной!" И о его жадности – тряпье копит по углам, все под целлофаном – для кого? А жалко его… А мать – героиня. Нас кормила, а сама голодная. И никогда не жаловалась на болезни. Соседки: "Да какая веселая была!" Не забуду, как в детстве, на Кавказе, у нее приступ был, с кровати упала, а отец ногами пинал: "Вставай, стерва!"
– Я не люблю дипломатии, хитростей, – говорил Витя. – Я честный, правду-матку сразу выкладываю. Что? Какой еще такт! Ну и пусть такая честность – грубость!
Не понимал, что он – вылитый отец.
В морге мать в гробу, как живая. Рядом моют разбившихся мотоциклистов.
Руки ее натруженные, темные, с надувшимися жилами. Руки, которые помню с детства, в голодные годы на Кавказе.
Похороны, отец, Витя… Когда поставили крест, а на нем фотография матери, молодой и веселой, голова набок, на меня что-то нахлынуло – ринулся в кусты с неудержимыми рыданиями. Меня пытались вытащить, но я не давался.
Что это было? О чем я рыдал? О потерянном детстве? О печалях, выпавших на нашу долю? Потом у меня больше никогда не было такого.
Может быть, мое единственное настоящее – в тех старых песнях, которые пели отец и мать? В той жизни, с «маевками» у реки, с далеким городком, где бежал по деревянному тротуару в кино «Слон и веревочка» и занозил ногу, – вся жизнь там, а новое – вторичное. Может быть, так называемые современные люди на самом деле не современны, а там, в детстве всеми глубинами души. Не потому ли мы тянемся к тому, давнему.
Снова вспоминал мое "райское" детство, поселок Гроссевичи, по имени первопроходца, и бухту, постоянно сияющую над прибрежным городком-портом Находка. И предгорье Кавказа, где мать собирала орехи "чинарики", чтобы не умереть с голоду. О чем думал тогда, и почему закидал жизнь свою хламом случайных встреч, и даже любовь превратил в горечь, словно в это беззащитное нанесли страшный удар.
15
Мы с Ириной бродили вечером по продуваемым ветром улицам, мимо неуютных «сталинских» домов, задуманных не для жилья, а для лицезрения на проходящих перед ними парадных торжеств. Она собирается ехать с мужем к оставленной у родителей дочери Даше, и, по обыкновению, рубит прямо:
– Час с ребенком – еще весело, но целый день с глупеньким созданием – мука! Я понимаю твою жену. Если бы мое дитя было бесконечно со мной, и муж оставлял меня одну, делая карьеру – я бы тоже извела своего мужа. Это все интеллигентные жены так: "А я разве жить не хочу, делать карьеру?"
– А я хотел бы всегда находиться в детской чистоте.
– Какой ты милый мальчик! Но ничего не поделаешь. Ты должен поставить себя перед твоими женщинами. Убеди, что важным делом занят. Как мой муж меня убедил. Мои родители – он заявится раз в неделю, они: "Наконец, Боренька от своих государственных дел освободился". А он – баклуши бил. Правда, и я его ореол перед предками создавала…
– Как поставить себя, когда только ищу, и нет результата? – с горечью размышлял я. – Женщины любят успешных, и не понимают, что успеха может и не быть за всю жизнь…
Ирина рассказывала, как в Германии практику по немецкому проходила. Боялась, поезд увезет в Западную Германию.
– Поражаешься, до чего они культурнее, и мятых сумок не встретишь. А в Западной – поражаешься, до чего там культурнее, чем в Восточной. В Западном Берлине – огни, музыка, а в Восточном – темно, и люди серые.
Приютиться нам было негде, не в семьях же. В гостиницах, контролируемых органами, злые, как церберы, горничные не то что не могли предоставить номер, но вылавливали граждан, нарушающих моральную чистоту строителей коммунизма, и немедленно докладывали куда надо.
____
Приехал электричкой на дачу поздно.
Там были подруга Валя с новым мужем, ее кандидат наук поизмывался над ней и слинял.
Ее новый муж, добродушный мордатый шофер, покорный друг дома, молчит, пялит глаза на жену с обожанием. Она сидит отстраненно. На мою издевку: счастлив ли он? Он просиял: «Совершенно счастлив".
– Три копейки.
– Сколько концов у двух палочек?
– Пять.
– А у полпалочки сколько?
–Один.
– Ну, как же?
В дочке не было преграды, ничего отчужденного, она была сама доверчивость, как у меня в младенчестве, когда везли закутанного на санках в больницу.
____
После полудня мои родные пришли с занятий. Пока дочка раздевалась, хмурая Катя сказала:
– Два по ритмике. Учительница говорит: "Очень плохо, никакой координации. Просто машет руками, и нет ни малейшего внимания". Вышла из класса, а какой-то мальчик: "Вот эта девочка двойку получила". Та вся поджалась. Что делать?
Я вскипал, и к Светке:
– Мама… сил не жалеет. А ты… Ешь сейчас же!
– Сам ешь.
– Пре-кра-ти!
– Сам пре-кра-ти.
– Она не виновата! – останавливала меня мама. – Не говори ей ничего, слышишь? Не злись. Ведь это у нее детство такое. Нервная система, и что-то с головой не в порядке. Как у тебя. И ты не виноват.
Вечером были с Катей на концерте югославского певца Марьяновича, оставив дочку на тещу.
Когда пришли домой, она была грустна.
– Нравится мне его темперамент, талантливость. Он скребет душу. Я приподнималась на месте, когда он пел про слепого. Обаятелен, и руки так точны, выразительны! За ним каждая пошла бы.
Во мне снова промелькнула боль. Она меня не любит.
А она продолжала и продолжала:
– Русские могут в душе быть хорошими, но все равно – хамы. А немец хоть и подлец в душе, но дает женщине то, что она жаждет – хоть по форме, но заботу о женщине.
***
Когда я узнал, что моя мать заболела, срочно уехал в городок Арсеньев, где жили родители.
Увидев меня, худой изможденный отец в седой щетине зарыдал, уткнувшись в мое плечо.
Пошел в больницу – там вдруг: Клава умерла, только что… Подождите, сейчас нельзя…
Пошел без оглядки. Дома хлопотливые тетки, зарыдавший отец. Они об отце – разное, как почти не отходил от гроба матери, не давая себя сменить: "Нет, я ее язык изучил, лучше понимаю ее". И как хотел похоронить за счет столовой, где мать работала.
Витя говорил об отце, лежавшем сутки, когда мать в морге разлагалась. У него, мол, температура, отстаньте… А когда мать заболела: "Пусть лучше мать умрет, чем мне с ней – калекой. Как я ее потащу, если выживет? Я сам больной!" И о его жадности – тряпье копит по углам, все под целлофаном – для кого? А жалко его… А мать – героиня. Нас кормила, а сама голодная. И никогда не жаловалась на болезни. Соседки: "Да какая веселая была!" Не забуду, как в детстве, на Кавказе, у нее приступ был, с кровати упала, а отец ногами пинал: "Вставай, стерва!"
– Я не люблю дипломатии, хитростей, – говорил Витя. – Я честный, правду-матку сразу выкладываю. Что? Какой еще такт! Ну и пусть такая честность – грубость!
Не понимал, что он – вылитый отец.
В морге мать в гробу, как живая. Рядом моют разбившихся мотоциклистов.
Руки ее натруженные, темные, с надувшимися жилами. Руки, которые помню с детства, в голодные годы на Кавказе.
Похороны, отец, Витя… Когда поставили крест, а на нем фотография матери, молодой и веселой, голова набок, на меня что-то нахлынуло – ринулся в кусты с неудержимыми рыданиями. Меня пытались вытащить, но я не давался.
Что это было? О чем я рыдал? О потерянном детстве? О печалях, выпавших на нашу долю? Потом у меня больше никогда не было такого.
Может быть, мое единственное настоящее – в тех старых песнях, которые пели отец и мать? В той жизни, с «маевками» у реки, с далеким городком, где бежал по деревянному тротуару в кино «Слон и веревочка» и занозил ногу, – вся жизнь там, а новое – вторичное. Может быть, так называемые современные люди на самом деле не современны, а там, в детстве всеми глубинами души. Не потому ли мы тянемся к тому, давнему.
Снова вспоминал мое "райское" детство, поселок Гроссевичи, по имени первопроходца, и бухту, постоянно сияющую над прибрежным городком-портом Находка. И предгорье Кавказа, где мать собирала орехи "чинарики", чтобы не умереть с голоду. О чем думал тогда, и почему закидал жизнь свою хламом случайных встреч, и даже любовь превратил в горечь, словно в это беззащитное нанесли страшный удар.
15
Мы с Ириной бродили вечером по продуваемым ветром улицам, мимо неуютных «сталинских» домов, задуманных не для жилья, а для лицезрения на проходящих перед ними парадных торжеств. Она собирается ехать с мужем к оставленной у родителей дочери Даше, и, по обыкновению, рубит прямо:
– Час с ребенком – еще весело, но целый день с глупеньким созданием – мука! Я понимаю твою жену. Если бы мое дитя было бесконечно со мной, и муж оставлял меня одну, делая карьеру – я бы тоже извела своего мужа. Это все интеллигентные жены так: "А я разве жить не хочу, делать карьеру?"
– А я хотел бы всегда находиться в детской чистоте.
– Какой ты милый мальчик! Но ничего не поделаешь. Ты должен поставить себя перед твоими женщинами. Убеди, что важным делом занят. Как мой муж меня убедил. Мои родители – он заявится раз в неделю, они: "Наконец, Боренька от своих государственных дел освободился". А он – баклуши бил. Правда, и я его ореол перед предками создавала…
– Как поставить себя, когда только ищу, и нет результата? – с горечью размышлял я. – Женщины любят успешных, и не понимают, что успеха может и не быть за всю жизнь…
Ирина рассказывала, как в Германии практику по немецкому проходила. Боялась, поезд увезет в Западную Германию.
– Поражаешься, до чего они культурнее, и мятых сумок не встретишь. А в Западной – поражаешься, до чего там культурнее, чем в Восточной. В Западном Берлине – огни, музыка, а в Восточном – темно, и люди серые.
Приютиться нам было негде, не в семьях же. В гостиницах, контролируемых органами, злые, как церберы, горничные не то что не могли предоставить номер, но вылавливали граждан, нарушающих моральную чистоту строителей коммунизма, и немедленно докладывали куда надо.
____
Приехал электричкой на дачу поздно.
Там были подруга Валя с новым мужем, ее кандидат наук поизмывался над ней и слинял.
Ее новый муж, добродушный мордатый шофер, покорный друг дома, молчит, пялит глаза на жену с обожанием. Она сидит отстраненно. На мою издевку: счастлив ли он? Он просиял: «Совершенно счастлив".