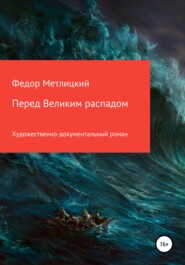По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тьфу, нехорошо лицемерить, – возмущалась Лариса.
На работе первый день после отпуска провел кое-как. Странную роль играет привычка. С одной стороны – привычка свыше нам дана, замена счастию она. Без ее автоматизма невозможно было бы жить. А с другой стороны, она постепенно убаюкивает душу, и из ее уютного гнездышка уже невозможно выйти. Об этом мало пишут, мало знают, какую огромную роль играет в социальной жизни привычка. Отсюда консерватизм, натурализм, застой в умах и самой жизни.
Спас профком, предложил билеты в Театр эстрады. Обязали участвовать в мероприятии всем коллективом.
В фойе изостудия, выставлены картины и фотографии о комсомольцах 20-х годов, молодые строители, оратор в благородном негодовании, рубрика "Молодость наша", и пр.
В полукружьи зала с потертыми бархатными креслами на сцене толстая окорсетенная певичка с выпирающими мясами, в роковом черном платье с блестками, держала микрофон в полной руке в кровавых перчатках, и в позе кинозвезды ломала руки, изнывая лицом: "Вернись, я все прощу".
То был вечер романсов, вернувшихся в шестидесятые из чеховского времени, когда вся темная жизнь сузилась в луче любви двоих. И в них – вера во что-то сладостное, бесплотное.
Сзади яростно аплодировали.
– Бра-а-во! Ой, какая молодец! Би-и-с!
– Просим: "Ах, не любил он…"
– Пару гнедых!… Бубенцы!
Восторженные несли на сцену цветы в целлофане, целовали ручку. Это было воскрешение подлинных тайных томлений людей по красивой жизни, почему-то не запрещенных новой эпохой.
Мне почему-то было жалко немолодую певицу. Прохоровна возмущалась:
– Не очень интересно? Мелко? Не любишь театр? Для меня театр – это храм! Я забываю обо всем, что тяготит, не удовлетворяет в обыкновенной жизни.
По пути домой разведенная Лида грустила.
– Как я люблю девятнадцатый век! Все старое красивое меланхоличное, выраженное в музыке – различные "листки из альбомов", романсы, "Жаворонка".
____
Вечером ехал домой в метро, устало, закрывшись от всех в своей оболочке. Напротив тип так же отчужденно смотрит на всех, и думает, наверно, так же. Я один со своей долгой жизнью, расту, мучаюсь, и не могу вырваться из своей оболочки, стать собой. Я – центр вселенной, все проходит через меня, и не избавиться от этого. Может быть, умру, и тогда переселюсь в тебя, и снова, не зная о своем прошлом, буду страдать и мучиться – один…
…Я вглядываюсь из моего двадцать первого столетия в то время: странно, что не выходит смеяться над ним. Там, как и сейчас, люди страдали и, не зная выхода, смирялись перед судьбой в не меняющейся системе существования. За что их хулить? И осуждать то время?
***
Катя неожиданно вошла в мой кабинет-загородку.
– Значит, сходил, послушал высокое искусство. Старая певица не дает ходу молодым? Не говори никому, засмеют.
У нее были фотографии Светки, принесла и хотела положить на мой стол.
– А она на тебя похожа…
Я инстинктивно закрыл дневник.
Она вдруг рванулась.
– Думаешь, подглядываю?
Отвернулась, побагровела, жилы на шее некрасиво вздулись, заплакала.
Во мне – острая жалость.
– Да я…ну брось… Я ничего такого…
Схватила фотографии,
– Что принести, купить?
– Все куплено.
И мышью мимо.
Поздно вечером. В спальне она раздевалась. Я вошел.
– Ну, что стоишь, хочешь посмотреть?
Она легла в постель, закрылась одеялом, как зачарованная красавица, не мог к ней прикоснуться через невидимое стекло.
– Я тебя пять лет видел, можешь быть спокойной. Просто инстинктивно вошел.
– Ну, так и инстинктивно уходи.
– Что ж… давай разойдемся. Пиши заявление, не сходимся, мол, характерами.
Один, смотрел в темное зеркало окна, и представлял себя в расстегнутом пиджаке, с галстуком, кем-то гордым, есенинским. И думал о том, что нет в моей оторванной от семьи и родины молодости такого чистого, как в детстве, где была синяя-синяя бухта Совгавани. Все мое взрослое – неразделенная любовь, и несчастье в душе. И еще думал: почему так? Почему мне мало быть счастливым с любимой женой и дочкой? Пусть она меня и не любит.
____
Утром Катя приучала Светку делать зарядку.
– Не кривляйся! Делай! Ой, не могу-у…
Я встал заспанный, взял ее за руку и спокойно начал делать с ней зарядку. Она усиленно подражала мне, ручки и тело – сами по себе, кривенькие, не стройные.
Катя говорила нейтральным тоном.
– Она плохо занималась. Чесалась, не понимала. Да и преподаватель хорош, задает на дом столько, что можно ребенка погубить. Я ей робко: «Слишком много». Та: «Должна выучить!» Света не понимает, когда обидное говорят, видит движение губ, открывает варежку и восторженно осклабливается в ответ. Мысли нет, что могут обидеть. Вся в тебя, гены твои…
Она умеет читать, но не хочет. Говорит, не сдерживая себя, выкладывает в полный голос, и в этом есть очарование непосредственности.
Катя вздохнула.
– Столько дел. Верчусь целый день, на ногах: в школу, поликлинику, занятия, редактура.
Уходя, слышал, как мама учит считать.
На работе первый день после отпуска провел кое-как. Странную роль играет привычка. С одной стороны – привычка свыше нам дана, замена счастию она. Без ее автоматизма невозможно было бы жить. А с другой стороны, она постепенно убаюкивает душу, и из ее уютного гнездышка уже невозможно выйти. Об этом мало пишут, мало знают, какую огромную роль играет в социальной жизни привычка. Отсюда консерватизм, натурализм, застой в умах и самой жизни.
Спас профком, предложил билеты в Театр эстрады. Обязали участвовать в мероприятии всем коллективом.
В фойе изостудия, выставлены картины и фотографии о комсомольцах 20-х годов, молодые строители, оратор в благородном негодовании, рубрика "Молодость наша", и пр.
В полукружьи зала с потертыми бархатными креслами на сцене толстая окорсетенная певичка с выпирающими мясами, в роковом черном платье с блестками, держала микрофон в полной руке в кровавых перчатках, и в позе кинозвезды ломала руки, изнывая лицом: "Вернись, я все прощу".
То был вечер романсов, вернувшихся в шестидесятые из чеховского времени, когда вся темная жизнь сузилась в луче любви двоих. И в них – вера во что-то сладостное, бесплотное.
Сзади яростно аплодировали.
– Бра-а-во! Ой, какая молодец! Би-и-с!
– Просим: "Ах, не любил он…"
– Пару гнедых!… Бубенцы!
Восторженные несли на сцену цветы в целлофане, целовали ручку. Это было воскрешение подлинных тайных томлений людей по красивой жизни, почему-то не запрещенных новой эпохой.
Мне почему-то было жалко немолодую певицу. Прохоровна возмущалась:
– Не очень интересно? Мелко? Не любишь театр? Для меня театр – это храм! Я забываю обо всем, что тяготит, не удовлетворяет в обыкновенной жизни.
По пути домой разведенная Лида грустила.
– Как я люблю девятнадцатый век! Все старое красивое меланхоличное, выраженное в музыке – различные "листки из альбомов", романсы, "Жаворонка".
____
Вечером ехал домой в метро, устало, закрывшись от всех в своей оболочке. Напротив тип так же отчужденно смотрит на всех, и думает, наверно, так же. Я один со своей долгой жизнью, расту, мучаюсь, и не могу вырваться из своей оболочки, стать собой. Я – центр вселенной, все проходит через меня, и не избавиться от этого. Может быть, умру, и тогда переселюсь в тебя, и снова, не зная о своем прошлом, буду страдать и мучиться – один…
…Я вглядываюсь из моего двадцать первого столетия в то время: странно, что не выходит смеяться над ним. Там, как и сейчас, люди страдали и, не зная выхода, смирялись перед судьбой в не меняющейся системе существования. За что их хулить? И осуждать то время?
***
Катя неожиданно вошла в мой кабинет-загородку.
– Значит, сходил, послушал высокое искусство. Старая певица не дает ходу молодым? Не говори никому, засмеют.
У нее были фотографии Светки, принесла и хотела положить на мой стол.
– А она на тебя похожа…
Я инстинктивно закрыл дневник.
Она вдруг рванулась.
– Думаешь, подглядываю?
Отвернулась, побагровела, жилы на шее некрасиво вздулись, заплакала.
Во мне – острая жалость.
– Да я…ну брось… Я ничего такого…
Схватила фотографии,
– Что принести, купить?
– Все куплено.
И мышью мимо.
Поздно вечером. В спальне она раздевалась. Я вошел.
– Ну, что стоишь, хочешь посмотреть?
Она легла в постель, закрылась одеялом, как зачарованная красавица, не мог к ней прикоснуться через невидимое стекло.
– Я тебя пять лет видел, можешь быть спокойной. Просто инстинктивно вошел.
– Ну, так и инстинктивно уходи.
– Что ж… давай разойдемся. Пиши заявление, не сходимся, мол, характерами.
Один, смотрел в темное зеркало окна, и представлял себя в расстегнутом пиджаке, с галстуком, кем-то гордым, есенинским. И думал о том, что нет в моей оторванной от семьи и родины молодости такого чистого, как в детстве, где была синяя-синяя бухта Совгавани. Все мое взрослое – неразделенная любовь, и несчастье в душе. И еще думал: почему так? Почему мне мало быть счастливым с любимой женой и дочкой? Пусть она меня и не любит.
____
Утром Катя приучала Светку делать зарядку.
– Не кривляйся! Делай! Ой, не могу-у…
Я встал заспанный, взял ее за руку и спокойно начал делать с ней зарядку. Она усиленно подражала мне, ручки и тело – сами по себе, кривенькие, не стройные.
Катя говорила нейтральным тоном.
– Она плохо занималась. Чесалась, не понимала. Да и преподаватель хорош, задает на дом столько, что можно ребенка погубить. Я ей робко: «Слишком много». Та: «Должна выучить!» Света не понимает, когда обидное говорят, видит движение губ, открывает варежку и восторженно осклабливается в ответ. Мысли нет, что могут обидеть. Вся в тебя, гены твои…
Она умеет читать, но не хочет. Говорит, не сдерживая себя, выкладывает в полный голос, и в этом есть очарование непосредственности.
Катя вздохнула.
– Столько дел. Верчусь целый день, на ногах: в школу, поликлинику, занятия, редактура.
Уходя, слышал, как мама учит считать.