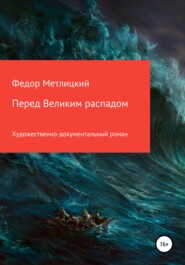По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы потешались, умоляли почитать его вирши. Он стал в позу, со стаканом "солнцедара".
А в пруду кричат лягушки,
Раздается ихне «ква».
Удовольствие мне было
Не одно, а целых два.
– Вот что значит народное утробное мычание! – восторгался Коля. – Какая сермяжная сила!
Поэт смотрел отстраненно, как непризнанный гений.
Трезвый Гена Чемоданов излагал что-то из своей теории. Коммунизм – это нравственная, моральная категория. Любая власть – насилие. У Пастернака в "Докторе Живаго" – отношение личности к революции. Он говорит: революция – да. А что делать, если она личности не нужна?
Матюнин насторожился:
– Интеллигентская психология! Вот, рассказ, где бывший фронтовик в мирной жизни надломился. Неужели наши герои, презирающие опасность, стали вот такими, с бегающими глазами? Разве так? Разве это правда характера? Фу, гадость!
Юра своим уверенным говорком юмориста:
– Вот Кочетов в своем "Чего же ты хочешь?" изобразил героя-коммуниста в постели: "Что дороже – жена или партия?» Что же, вы думаете?
И торжественно ответил:
– Партия. Это после того, как жена его удовлетворила.
Гена сурово отвечал:
– Как только задумывается образ положительного героя – ищи идеологические ходули.
– Чепуха! – злился Матюнин. – Нельзя, чтобы остались одни обыватели со своим барахлом. Поэт Фаиз Ахмед Фаиз писал, что борьба за человеческое счастье кажется тяжелой и бесконечной, а мы сами выглядим беспомощными и ненужными в сравнении с ее размахом, если только рассматривать эту борьбу с точки зрения личности. Борьба не является чем-то личным, как влюбленность в женщину или болезнь ребенка. Ее нужно рассматривать только с точки зрения коллектива, и тогда понимаешь, как полнокровна эта борьба, как целенаправленна и как много в ней надежд на победу. Как личности, мы не очень много значим в мире.
– Иначе говоря, "броня крепка, и танки наши быстры", – зло сказал Гена. – Изворотливость турка, чтобы понравиться большевикам. Сейчас снова встает этот вопрос: личность или коллективная воля? Быть независимым от насилия коллектива – значит ли быть против коллектива? Может ли масса выиграть борьбу за счастье? Или надо прекратить, наконец, насилие над человеком, оставить его в покое?
Мне это было интересно, я озадачил всех:
– Я вот чувствую себя отдельным от коллектива. Но почему мне больно, что я, отдельный, далек от всех? Может быть, живу не в струю?
– Мы все живем не в струю, – заржал Батя. Гена возмутился:
– Почему все? Недостаток воображения, чтобы увидеть в других себя, не дает понять, что и они – такие же, как и мы. Это глухая стена между индивидом и окружающими людьми. Отсюда рождаются пренебрежение к человеку. Верить в человека – это самое трудное из всех. Гоголь говорил: «Надобно любовью согреть сердца, творить без любви нельзя».
У нас с Геной была симпатия. Как-то он пригласил меня домой. Встретила его жена, приветливая, видно, легкая и веселая, и деликатно вышла. Комната у него маленькая и чистая, с книжными полками, портретами классиков, гитарой на стене. Одна комната проходная и две – "запроходных".
Он вдруг признался мне:
– Я выживальщик! Зачем-то редактирую дерьмо в дерьмовом журнале. Бежать нужно из этой системы. Жена тоже готова уехать.
Я тоже почему-то открылся перед ним:
– Пишу что-то вроде исповеди, ищу смысл, которого в нашем застывшем времени нет. Иначе, зачем жить? Но не могу. Мои мысли идут вразрез со всем, чем люди заняты.
Он удивился.
– Трудно тебе будет. Ты, как папа Блока, последователь Флобера, копил в себе и сгинул в поисках великой формы, так и не сказав ничего.
Среди моих приятелей во мне словно отпускали зажимы, и открывалось еще что-то, позволяющее свободно изливаться.
– Кое-что понял, – признавался я. – Когда прочитал Федина "Горький среди нас". Тот утверждает: "Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое".
Матюнин радостно поддержал:
– Горький не терпел сострадания к "клячам человечества". Клячи нередко рисуются им, как нищие – своими язвами. Часто путают и ломают жизнь таких "рысаков", как Ломоносов, Пушкин, Толстой. Не любил "Шинель" Гоголя, так как ненавидел страдание, а классики взывали к сочувствию, вроде Луки. "Милосердие – прекрасно, да. Но укажите мне примеры милосердия "кляч". А "рысаками" творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы".
Я твердо сказал:
– И вот чем обернулось это по-горьковски! Поиски героя – в фальшь, ненависть к страданию – пренебрежением к "клячам", воспевание нового – в приукрашивание жизни, без сомнений и мук. Единственный положительный герой – это правда. Нет, так ли неправы классики?
– Ты чего такой злой? – удивился Юра. – Горький сам же за это и пострадал, отравили.
И заворковал:
– Сейчас пересматривают наш путь. Мы уже не будем жить при коммунизме. Маркс? Его "Капитал" – уже не научный труд, а колоссальная поджигающая агитка, где все подчинено не фактам, а – взрыву. Жил себе человек, сидел в кабинете, обладал красивой женой, и не предполагал, что вознесут где-то на диком востоке. Группе людей взбрела в голову мысль построить общество по его схемам, вот и построили. Ленин во многом бездоказателен. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно… Что это значит?
– Да, Ленину надо было предвидеть, что получится с системой, – сказал Гена. – Написав записку в ЦК о Сталине, он сыграл тому на руку. Молчал бы, так и не выбрали бы генеральным.
Коля окрысился на меня:
– Это все твоя, Веня, система, с твоими засевшими бюрократами.
Я возмутился.
– Ты не знаешь моих бюрократов. Они такие же, как и мы, страдают и выживают.
– Пока будет существовать система, они будут ее рабами, – заступился Гена. – Вечный удел чиновника.
– Значит, жизнь не зависит от бюрократов? А кто погубил деревню? Кто губит нашу жизнь?
– Сам сказал – система. У нас тот же капитализм, что и на Западе, только наши капиталисты не знают денег, им принадлежит вся страна. Каждый тянется на успех, на выгодное место, дрожит за него. А пишут: новое общество – потрясение основ! Вот, когда люди перестанут быть эгоистами, тогда и коммунизм будет.
Молчавший пьяный Батя, вроде спавший, вдруг проснулся и стал утверждать себя.
– Перечитал Ленина! Загляните в него – все, все нарушается, все – против.
Сермяжный поэт сказал стесняясь:
– А я люблю Ленина все равно. Очень уважаю.
– За что, конкретнее? – спросил Коля.
– Ммм…
А в пруду кричат лягушки,
Раздается ихне «ква».
Удовольствие мне было
Не одно, а целых два.
– Вот что значит народное утробное мычание! – восторгался Коля. – Какая сермяжная сила!
Поэт смотрел отстраненно, как непризнанный гений.
Трезвый Гена Чемоданов излагал что-то из своей теории. Коммунизм – это нравственная, моральная категория. Любая власть – насилие. У Пастернака в "Докторе Живаго" – отношение личности к революции. Он говорит: революция – да. А что делать, если она личности не нужна?
Матюнин насторожился:
– Интеллигентская психология! Вот, рассказ, где бывший фронтовик в мирной жизни надломился. Неужели наши герои, презирающие опасность, стали вот такими, с бегающими глазами? Разве так? Разве это правда характера? Фу, гадость!
Юра своим уверенным говорком юмориста:
– Вот Кочетов в своем "Чего же ты хочешь?" изобразил героя-коммуниста в постели: "Что дороже – жена или партия?» Что же, вы думаете?
И торжественно ответил:
– Партия. Это после того, как жена его удовлетворила.
Гена сурово отвечал:
– Как только задумывается образ положительного героя – ищи идеологические ходули.
– Чепуха! – злился Матюнин. – Нельзя, чтобы остались одни обыватели со своим барахлом. Поэт Фаиз Ахмед Фаиз писал, что борьба за человеческое счастье кажется тяжелой и бесконечной, а мы сами выглядим беспомощными и ненужными в сравнении с ее размахом, если только рассматривать эту борьбу с точки зрения личности. Борьба не является чем-то личным, как влюбленность в женщину или болезнь ребенка. Ее нужно рассматривать только с точки зрения коллектива, и тогда понимаешь, как полнокровна эта борьба, как целенаправленна и как много в ней надежд на победу. Как личности, мы не очень много значим в мире.
– Иначе говоря, "броня крепка, и танки наши быстры", – зло сказал Гена. – Изворотливость турка, чтобы понравиться большевикам. Сейчас снова встает этот вопрос: личность или коллективная воля? Быть независимым от насилия коллектива – значит ли быть против коллектива? Может ли масса выиграть борьбу за счастье? Или надо прекратить, наконец, насилие над человеком, оставить его в покое?
Мне это было интересно, я озадачил всех:
– Я вот чувствую себя отдельным от коллектива. Но почему мне больно, что я, отдельный, далек от всех? Может быть, живу не в струю?
– Мы все живем не в струю, – заржал Батя. Гена возмутился:
– Почему все? Недостаток воображения, чтобы увидеть в других себя, не дает понять, что и они – такие же, как и мы. Это глухая стена между индивидом и окружающими людьми. Отсюда рождаются пренебрежение к человеку. Верить в человека – это самое трудное из всех. Гоголь говорил: «Надобно любовью согреть сердца, творить без любви нельзя».
У нас с Геной была симпатия. Как-то он пригласил меня домой. Встретила его жена, приветливая, видно, легкая и веселая, и деликатно вышла. Комната у него маленькая и чистая, с книжными полками, портретами классиков, гитарой на стене. Одна комната проходная и две – "запроходных".
Он вдруг признался мне:
– Я выживальщик! Зачем-то редактирую дерьмо в дерьмовом журнале. Бежать нужно из этой системы. Жена тоже готова уехать.
Я тоже почему-то открылся перед ним:
– Пишу что-то вроде исповеди, ищу смысл, которого в нашем застывшем времени нет. Иначе, зачем жить? Но не могу. Мои мысли идут вразрез со всем, чем люди заняты.
Он удивился.
– Трудно тебе будет. Ты, как папа Блока, последователь Флобера, копил в себе и сгинул в поисках великой формы, так и не сказав ничего.
Среди моих приятелей во мне словно отпускали зажимы, и открывалось еще что-то, позволяющее свободно изливаться.
– Кое-что понял, – признавался я. – Когда прочитал Федина "Горький среди нас". Тот утверждает: "Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое".
Матюнин радостно поддержал:
– Горький не терпел сострадания к "клячам человечества". Клячи нередко рисуются им, как нищие – своими язвами. Часто путают и ломают жизнь таких "рысаков", как Ломоносов, Пушкин, Толстой. Не любил "Шинель" Гоголя, так как ненавидел страдание, а классики взывали к сочувствию, вроде Луки. "Милосердие – прекрасно, да. Но укажите мне примеры милосердия "кляч". А "рысаками" творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы".
Я твердо сказал:
– И вот чем обернулось это по-горьковски! Поиски героя – в фальшь, ненависть к страданию – пренебрежением к "клячам", воспевание нового – в приукрашивание жизни, без сомнений и мук. Единственный положительный герой – это правда. Нет, так ли неправы классики?
– Ты чего такой злой? – удивился Юра. – Горький сам же за это и пострадал, отравили.
И заворковал:
– Сейчас пересматривают наш путь. Мы уже не будем жить при коммунизме. Маркс? Его "Капитал" – уже не научный труд, а колоссальная поджигающая агитка, где все подчинено не фактам, а – взрыву. Жил себе человек, сидел в кабинете, обладал красивой женой, и не предполагал, что вознесут где-то на диком востоке. Группе людей взбрела в голову мысль построить общество по его схемам, вот и построили. Ленин во многом бездоказателен. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно… Что это значит?
– Да, Ленину надо было предвидеть, что получится с системой, – сказал Гена. – Написав записку в ЦК о Сталине, он сыграл тому на руку. Молчал бы, так и не выбрали бы генеральным.
Коля окрысился на меня:
– Это все твоя, Веня, система, с твоими засевшими бюрократами.
Я возмутился.
– Ты не знаешь моих бюрократов. Они такие же, как и мы, страдают и выживают.
– Пока будет существовать система, они будут ее рабами, – заступился Гена. – Вечный удел чиновника.
– Значит, жизнь не зависит от бюрократов? А кто погубил деревню? Кто губит нашу жизнь?
– Сам сказал – система. У нас тот же капитализм, что и на Западе, только наши капиталисты не знают денег, им принадлежит вся страна. Каждый тянется на успех, на выгодное место, дрожит за него. А пишут: новое общество – потрясение основ! Вот, когда люди перестанут быть эгоистами, тогда и коммунизм будет.
Молчавший пьяный Батя, вроде спавший, вдруг проснулся и стал утверждать себя.
– Перечитал Ленина! Загляните в него – все, все нарушается, все – против.
Сермяжный поэт сказал стесняясь:
– А я люблю Ленина все равно. Очень уважаю.
– За что, конкретнее? – спросил Коля.
– Ммм…