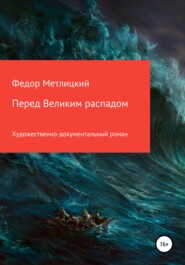По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я против премии тебе был, прямо скажу, не побоюсь. А что? Люди видят, и сейчас приходят – почему тому дали, а тому нет. Вот Лиле – за что давать? Нагрузок не несет, избегает, ничего кроме работы. Она очень хорошая, а вот начнут говорить – за что? За девочкой надо присмотреть – меняется. А ты ведешь себя неприлично.
Я гордо объявил им:
– Ругать меня – это антипартийно. Наша стенгазета получила первое место на конкурсе стенгазет министерства.
Члены партбюро озадаченно замолчали.
Я ощутил себя Гоголем, похваленным Николаем Палкиным за "Ревизора".
Вернувшись к сослуживцам, я торжественно раскрыл сумку. Все разглядывали награды с завистью.
И в коллективе начались раздоры: "Награды принадлежат не тебе, коллективу". Фломастеры запросило партбюро: "Будут храниться у нас – для твоей же газеты". Пластинки требовал профком – для художественной самодеятельности. Я отдал все. Уходил, не видя ничего, зол, не зная, как же с ними быть дальше, как работать. А славу кому отдавать? Прохоровна от души смеялась: "Ой, и ребенок!"
Догнала Лиля: "Лучше отдай мне пластинки, чем им. Или дай записать на пленку". Все они такие, бабы!
Прохоровна обнаружила критическую жилку, отзываясь о моей стенгазете:
– Все твои фельетоны – ерунда. Пишут, вон, в детских садах воруют повара. Без твоего фельетона всем это известно, и даже гораздо больше. Что толку, что, кривляясь, написал? Ничего не изменится. Нужно менять кое-что другое, и всем твоим фельетонистам это прекрасно известно. Вон, завтра собираются на совещание о мерах по улучшению работы на погранстанциях. Соберутся десять самодовольных типов и будут толочь воду в ступе, три дня. А потом из пальца высосут решение, все поддержат – и исполнят!
И нервно захохотала.
– Что они могут сделать, чтобы вагоны подавались бесперебойно? Чтобы рампы сделали на станциях? Чтобы эксперты лучше работали? Они же прекрасно знают, что не хватает вагонов, и нужны средства, чтобы сделать рампы, что экспертам нужно больше платить, тогда можно привлечь хороших специалистов.
Она вздохнула.
– Угнетает, когда работаешь без пользы. Хотела быть медиком или портным – знать, что пользу приношу. А то – сгноили целинную пшеницу. Покупаем яблоки в Японии. Бессарабия снабжала чем-то всю Европу, а как только присоединилась к нам – себя не прокормит. Сплошное позорище – кроличье мясо стало деликатесом, когда они плодятся миллионами! Нет, правильно сказано: в одно ярмо запрячь не можно коня и трепетную лань. Пока новый человек появится, много воды утечет. С нашим коллективным хозяйством – все так и будет. Создали директорам совхозов райскую жизнь, а результатов все равно нет. Люди, вон, говорят: "А, партейные! Ничем не отличаются от обыкновенных людей".
– Значит, верят в изначальную чистоту партии, – строго сказала Лидия Дмитриевна, выпрямляясь за столом и сняв очки.
Позже меня вызвал шеф.
– Слушай, не сиди ты после работы с Ириной. Да брось, я все понимаю! Люди! И так мечтают нас свалить.
***
После работы почему-то снова пошел к приятелям. Гена Чемоданов был возмущен.
– Читал статью нашего друга Матюнина в журнале "Москва"? Против "исповедальной литературы", то есть против Аксенова, Гладилина и других. Против интеллектуалов! Видите ли, он за интеллигентов против западничества, не переработанного в органическое целое с народным. Мол, все дело в знании подлинной нашей современности. Толкует, не понимая сам даже своих терминов.
– А что, так и есть, – спокойно сказал Костя.
Я жадно читал "шестидесятников", и вдохновлял Евтушенко, сказавший, что он вобрал в себя весь мир. Правда, Ахмадулина казалась мне слишком воздушной, чтобы жить в этом жестком мире. Ее, как бабочку, может смять любая буря. Это та абстракция, только талантливая, что была в моих юношеских мечтаниях, да и сейчас благоденствует в литературе, и она не может вывести никуда. За этим нет будущего. Но больше всего восхищался мальчишескими неслыханными откровениями Андрея Вознесенского, выпрыгивающего из цепких рук заплесневевшего времени, по которому шли сапогами.
– Сполоснутое отечество,
сполоснутый балабол,
сполоснутое человечество.
Сполоснутое собой?
Коля презирал:
– У Андрея Вознесенского – ничего за строчками. Какие-то брандспойты, и больше ничего. Он мне видится вроде огнетушителя, покрашенного в красный цвет.
– А твое «Серп луны жнет осоку в пруду» – умственность, – сказал Батя.
– Я вижу так свою деревню, – окаменел лицом Коля. – Видел, как жнут осоку, для крыш? Я в одной фразе все это заключил.
– У тебя разбираться холодным умом надо.
Батя изгалялся:
– Ты подражаешь Есенину.
– У него есть родина. Найдешь родину – пан, не найдешь – пропал.
– И замшелого Клюева носишь подмышкой.
– Дурак ты! У него тоже есть родина, хотя нюхает заплесневелые гнилушки. А вот у Маяковского и его приспешников нет родины. Сергей возмущался: потому так несогласованно все, любят диссонанс, шутовское кривляние. «Моя кобыла рязанская, русская. А у вас облако в штанах»…
Это была несовместимость двух течений, представленных с одной стороны имажинистом Есениным, а позже Распутиным и Шукшиным, а с другой – футуристом Маяковским и его последователями.
Байрон напал на Колю:
– А что у молодых "деревенщиков"? Идиллически абстрактная деревня, отсутствуют реальные черты. Говорят не о деревне, а болтают о самих себе. Орава критиков "молодогвардейцев" орут о народном духе, пародируя выстраданное славянофильство, не понимая, что истина – в раскрытии процессов деревенской жизни, обозначении новых характеров. Ивана Африкановича чуть ли не русским святым вывели, а он не святой, а смиренник – совратил черта. Это в русском характере.
Разгорелся спор. Многие тогда чувствовали, что подлинная нравственность сохранилась только в деревне, с ее древними русскими корнями. Я тоже считал, что в городе не осталось этой детской простоты и наивности, но и любил небывалый взлет в будущее Андрея Вознесенского.
Задетый Коля напустился на Байрона.
– А такие критики, как ты, восхваляют "исповедальщиков", а они механически переносят характеры из Сэлинджера и других. Нет национального характера, вместо живой народной речи – жаргон, вместо чувств русского человека – бравада нигилизмом, скепсисом, холодным эгоизмом. Накипь, а не основа.
Гордый Байрон парировал:
– Спорить можно только с великими. С незначительными людьми не о чем спорить. Наша литература – чисто русская, но и общечеловеческая. У Достоевского и Толстого национальное значит общечеловеческое.
Юра нацеливал на них свою скороговорку:
– А ну, все встаньте в круг – битва акынов!
Юра приглашал меня домой. Что-то коммунальное, не как в лучших домах. Отец оставил семью в детстве. Неизменные полные собрания сочинений Диккенса, Твэна, запрещенный немецкий том о спорте – тридцать шестого года, где Гитлер во всех позах, портрет желчного Геринга. Американские журналы.
Сам хозяин наигрывал на гитаре:
И от своей квартиры
Я ключ друзьям давал всегда.
И говорил, что уже тридцать, надо взрослеть.
Пришла жена, чернявая, и сразу ушла к себе со слезами на глазах. Юра виновато заговаривал ей зубы, безнадежно развлекал. Она: «Весь день одна, некуда пойти. Мне же тоскливо!» Тот достал карту Подмосковья, заговорил о поездке на велосипедах. Та стала смеяться. Юра поддерживал: «Ну, даешь… Я всегда знал, что твое обаяние неотразимо на мужиков».