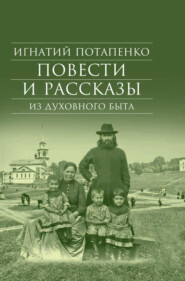По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не герой
Год написания книги
1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему же ты с женой не ужинаешь?
– Мы никогда не ужинаем. У нас нет такой привычки…
– Зачем же тогда ты зовешь меня в трактир?
– Ах, да ведь это совсем другое дело. Представь себе, я вот уже пять лет женат и веду, так сказать, умеренную домашнюю жизнь. Кажется, пора бы совсем отвыкнуть от трактирных повадок. Но удивительное дело. Иной раз тебя нестерпимо тянет в трактир. Придешь туда без всякого желания есть и пить, а ешь и пьешь, и знаешь, что тебя тут какой-нибудь чертовщиной на сале накормят, а все-таки поглощаешь, оживляешься, какое-то трактирное вдохновение на тебя находит, и знаешь – даже этакое легкое восторженное настроение ощущаешь!.. Вот что значит – трактирное воспитание! Так зайдем, Дмитрий Петрович!?
– Что ж, зайдем, отчего не зайти!..
Они перешли Владимирский проспект и повернули к Палкину. Рачеев вошел в ярко освещенный зал, свернул налево, прошел к четвертому столу и сел. Бакланов, который шел вслед за ним, тихонько смеялся.
– Почему ты сел именно за этим столом? – спросил он приятеля.
Тот осмотрелся и в свою очередь рассмеялся.
– Фу ты, черт!.. – сказал он, пожав плечами, – Ведь это я бессознательно сел за так называемый "наш" столик. Здесь совершались "малые попойки", а большие – в отдельном кабинете. Да, ты прав, Николай Алексеич! Очень живучи эти трактирные привычки… Ну, ты все-таки жил в столице и от времени до времени подновлял их, не так ли? А я, клянусь честью – я семь лет не заглядывал в трактир и вот, поди же ты, словно только вчера вышел отсюда!
– Да, Дмитрий Петрович, да! – подхватил Бакланов. – Но и то сказать, – недаром это так помнится. Ведь здесь, за этим столиком, пережито столько восторженных часов! Здесь именно, дружище, вырабатывались те высокие идеалы, которые теперь хоть издали освещают нам жизнь!
– Да, – с саркастической улыбкой промолвил Рачеев, – освещают! И Ползикову и Мамурину тоже освещают!..
– Гм… Ну, что ж… Ползиков свихнулся, а Мамурин всегда был ничтожеством! Но заметил ты, как он чистенько ведет себя у Высоцкой. Совсем порядочным человеком смотрит!.. Евгения Константиновна обладает способностью одним своим присутствием облагораживать людей…
– Толкуй, облагораживать! Никакого тут нет благородства. Знает он очень хорошо, что с его свинскими взглядами его туда не пустят, вот он и молчит…
– Все же слава богу, что есть у нас такое место, где люди вроде Мамурина чувствуют необходимость молчать… Гм… Гляди!..
В зал вошел Мамурин и, не заметив их, прошел, мимо и сел справа, но тут он увидел их, быстро поднялся и с чрезвычайно приветливым лицом стал приближаться к ним.
– А я вас и не заметил, други мои! – сказал он совершенно простым приятельским тоном и подал руку Бакланову, которую тот пожал; затем он протянул руку Рачееву и прибавил: – Что это ты какую штуку сегодня выкинул у Зои Федоровны?
Рачеев откинулся на спинку стула и положил обе руки на колени.
– Ты мне руки не подаешь? – спросил Мамурин, слегка покраснев, в то время как Рачеев нахмурил брови и лицо его сделалось бледным.
– Не подаю! – отрывисто и резко ответил он.
– Как это глупо, однако ж!.. – проговорил Мамурин, скрывая досаду и делая вид, что не придает этому обстоятельству большого значения. Протянутую было руку он направил в каман пиджака и достал оттуда портсигар. – Я высказал свои взгляды, ты с ними не согласен, вот и все!.. Нельзя, чтобы у всех были одинаковые взгляды!..
– Лучше будет, Семен Иваныч, если ты оставишь меня в покое! – угрюмо глядя вниз, промолвил Дмитрий Петрович.
– Но почему же? Не лучше ли объясниться? – настойчиво продолжал Мамурин.
– Ты желаешь непременно, чтобы я объяснился? Изволь! – с явным старанием сдержать свое волнение проговорил Рачеев. – Бывают взгляды, с которыми можно не соглашаться и спорить против них; но бывают и такие взгляды, которые можно только презирать, как презирать и тех людей, которые их исповедуют. Это те самые взгляды, что ты высказал сегодня… Вот все мое объяснение…
У Мамурина глаза загорелись гневом.
– Но это… это уже слишком, господин Рачеев!.. – воскликнул он, тяжело дыша. – За подобные вещи платят очень дорого!..
Бакланов испуганно смотрел на обоих. До этого времени почти пустой зал начал наполняться публикой, которая рассаживалась за столиками. Он боялся, чтобы ссора не привлекла внимание посторонних лиц. Но и Рачеев и Мамурин, по-видимому, имели это в виду; их настоящие чувства высказывались только в глазах, голоса же звучали сдержанно и никто не мог бы подумать, что это не простой приятельский разговор, а ссора.
– Чем платят? – с презрительной усмешкой спросил Рачеев. – Уж не дуэль ли мне предлагают!
– А хотя бы и так!?
– Я ее не приму!
– Значит, вы трус?
– Можете думать и так. Я не поставлю свою жизнь на карту ради человека, которого я не уважаю…
– Довольно. Значит, вы отказываете мне в удовлетворении?..
– Вы требовали объяснения, я сказал вам правду про вас. Скажите мне в лицо правду про меня, как бы она ни была горька, и вот вам удовлетворение…
– Это старая отговорка трусов… Вы меня ставите в необходимость расправиться с вами иначе…
– Это ваше дело! Но если вы намекаете на пощечину или нечто подобное, то предупреждаю вас, что тогда я вас задушу вот этими руками.
И Рачеев приподнял над столом сжатые кулаки.
– Посмотрим! – проговорил Мамурин и тотчас же вышел из зала, тяжело переваливаясь своим коротким и широким корпусом.
Приятели с минуту молчали. Бакланов хотел дать время Рачееву успокоиться.
– Ты извини меня, Николай Алексеич, за эту сцену! – промолвил Дмитрий Петрович, глядя на него еще взволнованными, сверкающими: глазами. – Но в сущности я очень рад, что сказал ему это. Знаешь, если бы все порядочные люди условились между собой не подавать руки таким господам, то они не смотрели бы так самоуверенно и их, пожалуй, было бы меньше… Надо, чтобы они непременно чувствовали себя отверженными, париями… А у вас здесь они чувствуют себя чуть ли не героями современности!.. Их презирают и приветливо подают им руку… А им ведь только и нужно, чтобы исполняли эту формальность до наших мнений о них им нет никакого дела!
Им принесли водку и что-то горячее; Рачеев машинально выпил, а до котлеты почти не дотронулся. Он много говорил по поводу только что происшедшей сцены, и тон его голоса постепенно принимал все более и более спокойный оттенок. Наконец он принялся за котлету и ел с видимым аппетитом.
– А все-таки я очень рад, что сказал ему это! – промолвил он, уже совершенно успокоившись. – Пусть предпринимает что ему угодно!
– Можешь быть уверен, что ничего не предпримет. Ведь он трус, я его знаю! – возразил Бакланов. – И дуэли он тебе серьезно не предложил бы, а если бы и предложил, то сам же сбежал бы…
Когда они расплатились и поднялись, чтоб идти домой, Рачеев заметил, что лицо Бакланова как-то внезапно омрачилось. Ему припомнилось то натянутое настроение, которое он застал сегодня в доме приятеля, и он подумал, что бедного Николая Алексеевича дома непременно ожидает бурная сцена. На улице Бакланов молча пожал ему руку, взял извозчика и с совершенно мрачным лицом уехал.
XII
Рачеев шел по тротуару Невского и думал о мрачном лице Николая Алексеевича. «Ведь вот, хорошие и неглупые люди, а жить не умеют. Чего им? Все у них есть: и средства, и имя, и общее уважение, и развлечения, и личное счастье, а все где-то в недрах их благополучия шевелится какой-то неведомый червяк и сверлит рану, и вся планировка их жизни зависит от этого червяка. Сидит он спокойно – жизнь идет приятно, пошевельнулся он, рана защемила, и все пошло вверх дном. Люди не умеют жить, не умеют ценить душевное спокойствие друг друга и свое собственное. Сколько от этого сил пропадает даром!» Он думал о впечатлениях этого дня. Они были так неожиданно разнообразны. Что такое Высоцкая? Она ему понравилась, но определенного мнения о ней он составить еще не мог. В ней есть что-то симпатичное, именно в ее взгляде – что-то правдивое, теплое, но только тогда, когда она говорила с ним; когда же она отвечала на довольно-таки пошлые изречения друга его, Бакланова, и других поклонников, то в глазах ее появлялось что-то холодное и сухое. Но может быть, она понравилась ему просто потому, что красива, что у нее в гостиной тепло, уютно и вольно чувствуется? Это бывает, и в этом надо хорошенько разобраться. Он пойдет к ней в воскресенье.
Зоя Федоровна, кажется, тип определенный и не вызывает никаких сомнений. Темперамент горячей крови… Его интересует не самый этот тип, а процесс превращения из женщины вполне порядочной в такую, про которую Мамурин может сказать, что он ее "приобретает". К ней он тоже пойдет и выслушает ее "дело".
Воспоминание о неожиданной сцене с Мамуриным вызывало в нем чувство удовольствия. "Это всегда бывает приятно, когда удастся мерзавцу сказать, что он мерзавец!" – думал он.
"Вот только зачем она книжки для народа издает? – опять переходили его мысли к Высоцкой. – Хотя это и восхищает моего друга Бакланова, но мне не нравится. Об этом я с нею поговорю…"
Дома он нашел на столе конверт и торопливо начал распечатывать его, как только увидел почерк адреса. Со времени его приезда в Петербург это было первое письмо из дому. Почерк был крайне неправильный, буквы принимали всевозможное направление, иногда совсем неожиданное, но Дмитрий Петрович отлично разбирал этот почерк. В письме было следующее:
"Дорогой Митюша! Первым делом будь спокоен: и я здорова, и Маша здорова, и все у нас благополучно, кроме того, что тебя нет, и мы очень скучаем. У Маши вышли еще два зуба, и ничего, не болела. Дел особенных не было. Приходили мужички и просили позволения закинуть сети в пруд. Как ты сказал мне, чтобы ни в чем не препятствовать, то я не препятствовала. Карасей поймали целую уйму! Влас говорит: это Дмитрий Петрович об нас в дороге вспоминает, от этого и счастье такое! Больше в эту осень ловить сетями уже нельзя, вредно. Я и сказала, что больше нельзя. Озимь взошла чудесно, и наша и деревенская. Федотий-старик говорит, что непременно сильно урожайный год будет. Он видел, что вороны как-то особенно летали, и это означает, что непременно урожай будет. Татьянина старшая дочь заболела тифом. Мы ее взяли в больничку. Фельшар, Иван Иванович, говорит, что ничего, вылежится, а доктор Колобков не приезжал еще, его куда-то в уезд взяли, приедет только в пятницу и сейчас нам. Микитина вдова приходила просить ржи, я дала ей мерку, видишь я все делаю, как ты велел. Вчера крестила у учительши. Марья Григорьев на родила дочку, такая здоровая, что прелесть. А Федор Петрович радуется и шутит: это, говорит, хорошо, что не сын, а дочка. Сын непременно был бы сельским учителем, что за корысть? А дочка может выйти замуж за коп угодно, хоть за сербского короля. У них мы веселились: пели песни и танцевали. Я вспомнила старину и проплясала русскую с Федором Петровичем, ведь он теперь наш родственник – кум. Был батюшка, отец Семен и смотрел и сказал: Вы, Александра Матвеевна, так хорошо танцуете, что ей-богу, даже не грешно. А как ты поживаешь в Питере, Митюша? Думаешь ли о нас? Думаешь, думаешь, я знаю. Ты пишешь, что там встретил много печального и мало хорошего. А я всегда говорила, что у нас куда лучше! Опиши, что еще видел. Сильно скучаю без твоей бороды, Митенька, но не думай, что с тоски бездельничаю. Все делаю, как следует, и все у нас в порядке. Молотилка кончает работу, и что-то она хрипит. Машинист сказал, на зиму ее в город, на поправку. Целую тебя миллион раз. Маша целует. Не забудь приглядеть мне перстенек с бирюзой, а ей крестик. Твоя Саша".