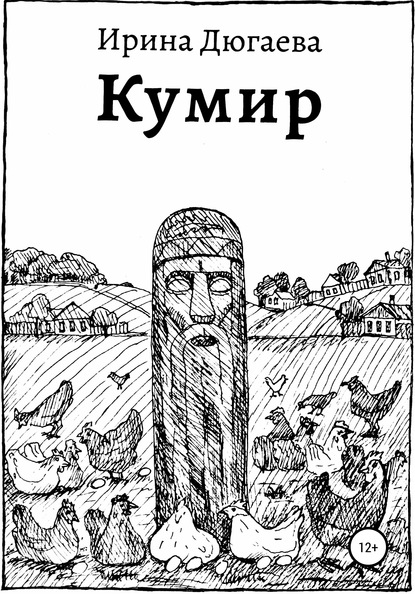По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кумир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Яша забыл, как дышать, как мигать, как двигаться. Он замер, только зрачки следили за неведомым явлением. Ветер взял скорость, завыл, обретая голос. Листья барабанили первобытный ритм. И шаровая молния тоже издавала звук. Еле уловимый, свистящий и дергающийся. Не то флейта, не то кларнет.
Одним махом Яша готов был послать всех физиков и ученых и поклясться, что шаровая молния была каким-то духом из неизвестных миров. Она скользила над водой прямо к нему, и шлейф воды, как магнитом, тянулся за ней. Яша смущенно поднялся на ноги. Молния остановилась. Она висела прямо над урезом, а Яша стоял на угоре и всей кожей ощущал волнующее дуновение.
Шаровая резко свернула и, огибая Яшу, двинулась вглубь леса, ускорившись, словно молодая олениха. Она точно ждала, что он пойдет за ней. Однажды увидев красоту, человек всегда тянется за ней. Так утешал себя Яша, почему-то уверив, что непременно надо идти за молнией.
Она мелькала среди деревьев, и её очертания менялись, она будто изгибалась в языческом плясе. Яша представлял себя странником, проникнувшим в земли туземцев, которые живут по законам дикой природы. Листья подпрыгивали в бешеном ритме, капли летели, жаркие, словно искры пламени.
Яша забыл, где находится. Ему виделись какие-то озабоченные, ревущие лица, тела, красующиеся телешом, одетые только в обрядовые маски волков и бусы из куриных лап.
Когда они с молнией подошли к костру, пляски неслись на пике экстатической волны. Воздух дышал эйфорией. Дождь пыхтел, точно изжаждавшийся алчущий любовник.
Яша рассмеялся. Шар застыл над костром. А у костра расселись не двенадцать месяцев или апостолов. Всего четыре оголённых старца. У них были длинные седые, с тщанием ухоженные бороды, клонящиеся до самой земли. Яша мельком подумал, что жили деды точно немало, раз имели бородищи такой длины. Волхвы.
У них был больной мертвенный оттенок кожи, близкий к глинистому, и такая же больная худоба. Как если бы только что встали из могил и не преминули вымыть бороды. На шеях у них были талисманы, опоясывавшие бороды спереди.
У одного талисман был в виде деревянного колеса с шестью спицами. У другого – ромб внутри квадрата. У третьего – какое-то подобие женщины на коне угловатых геометрических форм. Талисман четвертого он не успел разобрать. Они все сидели, словно шаманы, окружив костер, и даже не смотрели на него. Глаза их были слепы и напоминали сточные пруды в белооблачный день. Определенно, волхвы.
Разговор полагался интересный. Только Яше говорить не хотелось. Он бы еще порезвился среди деревьев, раздевшись и ловя чарками небесную воду. Как чародей из далеких недетских легенд.
Он ухмыльнулся, пожалев, что выбросил ружьё, и развернулся, намерившись улизнуть. Но один из старцев оказался прямо за спиной. Он глядел безоблачным немым взглядом.
– Иди, – одними губами утробно прошептал волхв. В его голосе слился гром и ропотный рык грозы. Точно говорило само небо.
Яша сжал кулаки и развернулся. Он мог бы спросить «Куда идти?», но не стал. Разговор полагался даже весьма интересный. И весьма долгий.
На погосте
Грохот стоял такой оглушительный, что наверняка слышен был во всех уголках Тупиков. Уж на кладбище-то точно был слышен. Сносили церковь.
Настроение у собравшихся и без того было угнетённое. По внешнему виду односельчан нельзя было сказать, что собрались они на похороны. Оделись буднично и поначалу даже обсуждали не смерть усопшей или её личность, а свои бытовые дела и незначительные тяготы.
С появлением председателя в строгом вельветовом костюме все, как под гипнозом, разом смолкли и слегка приуныли, пристыжено отворачивая лица или вперяясь взглядом в землю.
Тупиковое кладбище вырастало мертвыми полусгнившими крестами меньше, чем в двух километрах от деревни. Единственной достойной здесь внимания вещью был куст терновника, острый, как смерть, безжизненный, как труп. Рос куст прямо посреди кладбища и являл как бы ознаменование жуткого запустения, в котором забросили кладбище. Кресты – наскоро сколоченные, жиденькие палки, ограды могил – скособоченные квадраты плетней.
При виде Игоря Петровича Гришка вздрогнул, но взора не отвёл, только внутренне напрягся и выпрямился. Глаза у председателя ввалились, обросли тёмными кругами измученной скорби. Кончики губ повисли. Он провёл два дня с Василисой Петровной. Точнее, с её телом. По старому обычаю покойницу отвезли домой. Там её отпевали, и председатель, как ближайший родственник, сидел рядом, следя, чтобы веки усопшей не распахнулись вновь. А сегодня гроб везли на кладбище.
– Наш барин – лесная образина и недалёкая орясина, – с неразъяснимым чувством сочинял Лёха на ходу. Он был пьян и покачивался, словно ваза на краю стола. Гришка с силой поддержал его за локоть.
Вчера Лёху незаслуженно избили на школьном поле. Туда ходила вся школа. Потусить, развлечься, а на деле потунеядничать – как считал Гришка. Ему там делать нечего было. Скучные дубинные разговоры, похожие на стук по столу. А вот Лёха туда так и тянулся, жаждая признания сверстников. Но общение не заладилось. Он назвал их шематонами и вертопрахами. И хоть они вряд ли могли знать такие слова, но влупили со всем нажитым мастерством и пустым буйством.
– Все собрались? – хрипло спросил председатель. Никто не ответил. Вопрос показался Гришке неуместным.
– Я ж говорил. Недалёкая орясина, – фыркнул Леха, потирая густой синяк на скуле.
Гришка с силой стиснул ему руку, но тот и не ощутил как будто.
– Я хочу слово, – уже громче попросил Леха, осоловело поводя глазами.
Гришке вдруг стало жалко. Василису Петровну. Председателя. Всеми забытое кладбище. И вообще всех. Себя. Здесь, наверное, никогда не было так тихо. Обычно на похороны приходили только родственники да кто-нибудь из местных мужиков с руками половчее, чтобы орудовать лопатой; таким платили или пузырем или чем-нибудь из зерновых-мясных запасов. Зато на поминки сходилось полдеревни. И даже те, кого не звали.
Никто не плакал и ничего не говорил. Даже грохот от сноса церкви заглох, оставив только громовое эхо, как от взрыва.
Народу собралось немного, всего человек двадцать. Из учеников – в основном, старшики. Учителя и директриса – одна из немногих в чёрном. Хотя она, по большому счету, только чёрное и носила. Гришка уловил её взгляд, устремлённый к Алексею, и ему стало стыдно.
– Лёх, тебе домой надо, – попросил Гришка.
– Гриш, ты чего? – подавленно ответил Алексей. – Я тоже имею право здесь быть. Я тоже хочу проводить Василису Петровну.
Больше Гришка не мог и не смел давить. Это было бы нечестно. Он только вздохнул, но не перестал сжимать локоть другу.
Каркнул ворон. И только это разбавило уныние. Гришка нашёл глазами черную важную птицу на одном из крестов. На вороне был синий вязаный свитер. Гришка поразился, сперва не поверив увиденному. Ручная птица? Чей-то дар? Как ворон мог согласиться надеть свитер? У него же своя непомерная стать.
Кто это из жителей Тупиков изловчился угадать с размером и цветом, так, чтобы гордому глазастому угольку пришлось по нраву? На минуту Гришка заворожёно застыл.
Алексей, скользкий ужина, воспользовался моментом, вырвался и зашагал к заготовленной для гроба яме. Истинно подмостки нашёл. Только захмелевшие актеры обычно недолго на сцене держатся. Гришка замер в ожидании.
– Граждане, товарищи! – затараторил Алексей нескладно. – Событие до чрезвычайности ужасное случилось. Это несомненно. Ведь Василисы Петровны нам всем будет не хватать. Её честной заботы и трезвого рассудка. Она умела одним словом и утешить, и успокоить, и облагоразумить. Об её уме и порядочности можно целые панегирики писать, а в её честь петь оды. Редкого дарования был человек, – он склонил голову, как видно, ожидая оваций, но, не дождавшись, продолжил: – Да, редкостный человек был. Умела Василиса Петровна ещё и обремизить, так урезонить и так распечь, чтоб ты почувствовал себя самым ничтожным, убогим и позорящим весь мир существом, – он поднял правую руку а-ля Ленин, – Элементарная халдейка она была! – и опустил ладонь, как топор над старухой-процентщицей.
– Пьян ты что ли? – подозрительно прищурился председатель, раздувая ноздри, как бык.
– И точно! – крикнул Олежка Смирнов в двух шагах от Лехи. – Прёт от него что надо!
– А ну, пошёл прочь! – прикрикнула директриса, подходя ближе. – Как не стыдно!
И все учительские голоса подхватили «Как не стыдно!», вражеским кольцом окружая Лёху. Гришка опомнился, под дьявольское карканье приблизился к другу, вырывая из чужих рук.
– Ну, перестаньте! – умолял он. – Простите Алексея, он с горя! С кем не бывает.
– Уводи скорее, – промычал Игорь Петрович, заслоняя толпу.
Гришка потащил Лёху от греха и новых побоев подальше, словно осужденного – от праведной толпы. Тут шум голосов заглушил стук подъехавшего катафалка – праздной повозки, на которой в Тупиках традиционно возили гробы – на кладбище, и молодожён – на свадьбу.
Похожий на тонкий прутиковый голик и такой же голо-лысый, один из кучеров спрыгнул с козел, впопыхах запетлял между могилками.
– Игорь Петрович!
Игорь Петрович обернулся, глаза его, словно наведенное дуло, тут же нашли цель – гроб поверх повозки. Омертвелыми, неживыми шагами продвинулся он вперёд. Собравшиеся перестали голосить, и ворон в знак почтения тоже стих. Только вдруг директриса жалко разрыдалась, сморщившись, как чёрный угорь.
Председатель будто и не заметил кучера, бегущего навстречу, обошёл с другой стороны могилы и напрямик подошёл к повозке. Резвым, внезапно прытким, кошачьим движением взобрался наверх. Ополоумевший и дрожащий, открыл гроб.
– Где? – громовым шёпотом спросил он.
Кучер остановился и посмотрел на председателя покорно и униженно, словно раб.
– Там хохол ошалел вконец! – громко, без уважения к тишине, докладывал он. – Яшка на нас дуло наставил по дороге! Мы ойкнуть не успели, а он выстрелил куда-т, пригрозил, орал, что эт его собственность!
Другой водила странно кашлянул, как будто намекая, что вышло немного брехни.