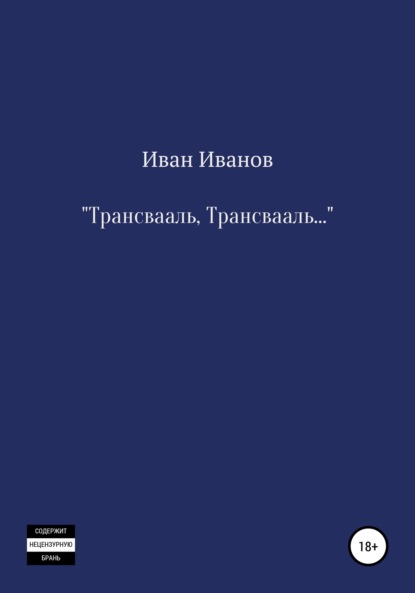По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Побледнев и исказившись в лице, она стала торопко креститься, суеверно шепча:
– Свят, свят… – Можно было подумать, что напротив на кряжу не лошадь кормилась, а стоял в саване покойник, воротившийся с погоста. – Кто пришел-то к нам, бабы!
– Да неужто наш Ударник-Архиерей? – так же не веря своим глазам, удивилась, но без испуга, молодайка в красной косынке, повязанной «домиком» над загорелым до черноты лицом.
И новинские, кто был поблизости, побросав заступы и хватаясь за траву, проворно покарабкались наверх по еще не взрытому кряжу. Обступили вкруговую нежданного гостя и, зная его прежние повадки и норов завзятого шленды, стали весело потешаться над ним:
– Ну и ну!..
– Учудил дак учудил!
– Эт надо ж, и с войны улизнул…
– И выходит, што ты, чубарушка, как есть – дезертир.
– А што, бабы, поди через его, прохиндея, на деревню-то еще и черное пятно ляжет?
– Дивуйтесь, бабы! Вона и нумер-то ему достался, кубысь, сам черт его крестил – тринадцать! – И верно, на крупе и передней лопатке стояли еще не совсем зажившие, выженные жигалом знаки: «13в/ч».
– Да ить Бог шельму метит, ха-ха-ха!
По веселой колготне новинских однодеревенцев чубарый догадался, что его тут помнят. На радостях он поднял хвост и, как гостинец, от души щедро сыпанул целую шапку зеленых «яблок». И приветно проржал, мол, здорово… мои однодеревенцы!
– Мое вам с кисточкой, плут-мазурик! – послышался в ответ звонкий голос. Сквозь толпу выгребал локтями Ионка, в одних трусиках, загорелый, как головешка, вихрастый и с озорным взглядом. В руке он держал обкусанный ломоть, видно, оставшийся от обеда. – Помнишь, как ты не имался нам? И мы тебя, шатуна несчастного, потом взяли в плен в логах Березуги? Забыл, поди?
Нет, ничего не забыл чубарый, тем более этого дружка-приятеля его родной сестры, белогривой Дивы, урожденной от пегашки-Попадьи… Зимой он часто обитал на конюшне, нередко заглядывая и к нему в денник, чтобы через Диву, по-сродственному угостить чем-то его вкусным: хлебом, вареной картофелиной или небольшим комочком сладкого снега-сахара. А когда он, приветно всхрапнув, смело потянулся к хлебу, все насмешки над ним однодеревенцев, как ветром сдуло:
– Ох, тошненько, бабы!.. Да он ить ранен…
И новинские только сейчас разглядели на чубаром ссадины, разъеденные до мяса слепнями:
– Сердешный ели ноги волочит, а мы тут комедь ломаем над ним. Бабы, а не с того ли свету он прихомылял к нам? – предположила опять та же сухопарая женщина. И тут же испугавшись своих слов, она прикрыла ладошкой щербатый рот, дабы не сболтнуть чего лишнего.
Женщины озадаченно переглянулись и, как куры перед грозой, заполошенно раскудахтались:
– Лукерья!
– Матюшиха!
– Живо, баба, беги к берегу.
– Вестник от мужика твово дожидается тутотка тебя…
Из единственного письма Матвея Сидоркина в деревне все знали, что в войну он «заступил при своих разномастных однодеревенцах – саврасом и чубаром». Он, колхозный конюх, по предписанию военкомата отгонял мобилизованных лошадей к месту их назначения. А сдав их там, и сам был мобилизован, зачислен в ездовые при боевой части. И новинские кумушки в открытую завидовали его жене:
– Нашей Матюшихе теперь што?.. Мужик непременно в живых останется.
– Понятное дело, не по самой же передовой будя разъезжать ее Тюха-Матюха.
– И обитать-то, поди, будя при кухне. При каше с маслом! Помяните мое слово: к Лушке своей заявится с наеденной ряхой.
– Не говори, кума. Оно в жисти-то так и бывает: кому – война, а кому – чистый прибыток.
– Архиерей, а ты, случаем, не встречал на войне свою сестрицу Диву? – в шутку и всерьез спросил Ионка-Весня.
По окатой некошенной межине грузной утицей, переваливаясь с боку на бок, торопко семенила рыхлотелая баба, посверкивая на солнце серпом в руке. Оказывается, новинские не только кромили заступами речной кряж, возводя противотанковую преграду, они и страду правили: за ольшаным частиком на Горбатых нивах жали рожь.
Когда перед запыхавшейся жницей толпа молча расступилась, чубарый бодро мотнул головой, словно поклонившись, и вновь приветно заржал: «Здравствуй, мать-радетельница!»
– Глядикось, узнал-таки! – умилились до слез новинские.
Да и как ему, чубарому, было не признать Лукерью. Бывало в зимний престол Николу ее непутевый муженек напьется всмятку, а без этого для него и праздник не праздник, она всякий раз приходила на конюшню задавать корм лошадям. Да что там говорить, она и пахла-то своим Матюхой, а Матюха своей Лукерьей. Кто их разберет, этих мурашей-человеков…
Жница с маху припала лицом к лошадиной морде и в голос одышисто взвыла подстреленной волчицей:
– Пошто один-то пришел?.. Где хозяина-то свово потерял? Што я седни скажу дома? Поди, ить сам знаешь, шестеро меня спросят… и семый на подходе. Ох, тошно мне! – Женщина в отчаянии заломила руки над головой, выпятив перед нежданным гостем округлый живот.
Чубарый, словно бы желая как-то утешить свою радетельницу, стал тереться мордой о трясущиеся Лукерьины плечи. От такой «жалости» еще стало горше. Еще круче зашлась она в плаче в предчувствии своей неизбывной черной печали. Да так, что и лошадь проняла своими холодящими душу воплями: чубарый вскинул высоко морду и тоже с какой-то пронзительной тоской проржал на всю округу. Кто знает, может лошади сейчас хотелось дозваться до кого-то из своих сородичей. Дозваться и рассказать о том, чего она не могла поведать людям.
Округа же оглушенно молчала. Только слышно было, как за дальним лесом, у Синего моста, бухали пушки. Но вот лошадиное эхо истаяло в заречном звонком и светлом, как сон, березняке, утонуло и улеглось там в немятых подушках кукушкиного льна.
– Не старайся, чубарушка, не старайся, – жалеючи вздохнула старая жница, подошедшая следом за Матюшихой. – Третьеводни девки на последних лошаденках, кои негожими вышли для войны, угнали коров, как сказали нам, в «глубокий тыл». Дак с ними и все жеребята уплелись. Так што теперь побаять тебе тутотка по-своему, по-лошадиному, не с кем.
Давая роздых натруженной за день-то-деньской пояснице, немного помолчав, она вновь заговорила. Но уже как бы сама с собой, высказывая накатившуюся мысль провидицы:
– Вот и с человеком могет ить так-от статься… Люди до того довраждуют промеж себя, што днесь останется кто-то один-одинешенек на всем белом свете. Потом – кричи, не кричи…
Вечером, как только опустел от людей берег, чубарый со стоном рухнул наземь. Вытянул уставшие изувеченные ноги, длинно выпластал по земле исхудавшую шею. И закатился глаз чубарого, став мутно-фиолетовым, как ягода-ежевика, которой тьмище зрело в приречных кустах. Словно бы у коняги и сил оставалось, ровно столько, чтобы только дохомылять до родной поскотины.
С макушки-«креста» окладистой могучей ели, что возвышалась здесь на зеленом угоре опрятной часовней, тут же слетала сорока, трескуче сокоча на все убережье. Белобокая сплетница понесла на хвосте полуденную новость: – «Сдох, сдох, сдох!»
Нет, кума-сорока, ты кашку-то вари, но только и ложкой никого не обноси. Как бы не так! Чубарый с великой войны воротился домой, и теперь не боялся, что не встанет на ноги: здесь каждая травинка поделится с ним своим здоровьем…
Так и лежал недвижно в росной траве до самого утра побитый коняга, пока не разбудили его на заре первые петухи, распевное многоголосье которых отчетливо доносилось из деревни по чуткой реке. Чубарый приподнял с земли полегчавшую за ночь голову и, прядая своими корноками, вслушался в петушиную зоревую и снова, как и вчера, отрадно проржал: «Свои!»
Это уж точно, новинских петухов не спутаешь ни с чьими. До того голосистые! Как примутся по утру драть свои глотки, похваляясь друг перед дружкой, по кругу деревни, ну, право, будто пьяные новинские мужики, разгулявшись, горланят в вёдро у себя в застольях. Только в отличие от мужиков у новинских петухов – каждое утро праздник…
Светало.
Это были те благостные минуты утра, когда хорошо отдохнув в ночи, легко думается и вспоминается о чем-то памятном, особенно из своего детства… Награди сейчас матушка-природа чубарого человеческим разумом и речью, ему было б, что вспомнить и рассказать из прожитой жизни, хотя б той же белобокой балаболке.
…По песчаной отмели, хранящей еще вечернее тепло, веселым козелком – скок! скок! – резвился белогривый сосунок. А напротив, стоя по колено в воде, пила его мать-пегашка Сорока. По деревенской насмехательской кличке «Попадья».
Из-за темного заречного леса вполглаза выглянуло лохматое со сна солнце, и гладь плеса обдало мелкой дрожью. Это проснулась Река, и молочный туман отлетел в небытие. Пегашка-мать, гулко роняя воду с вздрагивающих губ, борзо вскинула маленькую белую голову на длинной черной шее и призывно залилась в веселом реготе. На ее зов со стороны деревни, с конюшни тут же в ответ донесся раскатный голос племянника Буяна.
От родительской переклички белогривому дуралею сделалось до того отрадно в каждой его жилке, что он чуть было не перекинулся через голову, когда взбрыкнул высоко задом. И тут же испугавшись своей длинной, ломкой тени, по-лягушачьи шарахнулся в сторону, потом в другую, и без единой помарки поставил себя вкопанно около самой воды на песчаной плотной мокредине новеньким, широко разведенным циркулем. Потом победным султаном задрал кучерявый хвост в репьях, вытянулся весь в струнку и заливисто прозвенел на гулкой заре благословенному миру: «Иго-го-гоо… Я тоже вырасту большим и сильным!»
Дуралей-попрыгун словно и на самом деле верил в свое высокое предназначение. Он был первородным колхозным жеребенком, может, поэтому новинские мужики, круто бродившие на деревенской закваске по переворачиванию мира, и начертали ему на весеннем сходе радужную планиду: белогривому дуралею быть производителем!