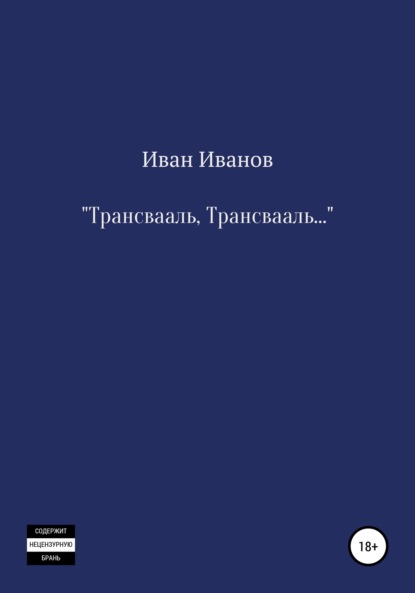По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не выдержал комариного содома и юный ездовой, он тоже вскоре убрался под спасительное покрывало. Так они, «тыловики – старый и малый» и ехали – от Глутно до Селищ, кимаря втемную под трескучие наигрыши ночных луговых музыкантов-дергачей, пока мальчишка не прохватился от дикого ржания лошади, ломкого хряста придорожного ольшаника и всполошенных криков председателя, которого будто угораздило ухнуть куда-то с концами в преисподнюю:
– Ой-ой… мать твою!..
Так оно и случилось. Лошадь, предоставленная сама себе, рванула вскачь под гору Крутого Ручья, а опущенные вожжи, намотавшись на замазученную дегтем ступицу переднего колеса, резко затянули ее на сторону. И новинский малый ковчег горемык с полного маху ухнул с кручи насыпи перемычки над «трубой» – в тартарары, где телега, налету в свободном падении разъявшись с передками, повисла кверху колесами на сломанных ольшинах. Дядька Егор, слышно было, брязгался в воде в жерле оврага, чертыхаясь и кляня все и вся на свете. А незадачливый возница оказался перед самой мордой лошади, которая вместе с передками лежала на боку, удушливо храпя и беспомощно лягаясь в воздухе ногами, словно шла по стене к небу.
Вот тут-то и сгодился мальчишке отцовский «узелок на память»: дернул за конец супони, завязанной на «бантик», и лошадь сама распряглась. Затем и встала на ноги, с благодарностью отфыркиваясь за оказанную помощь. А ее ездовой тем временем скатился вниз – вызволять из жерла оврага знаменитого на весь район Мельникова.
Потом немощного председателя – под руку и слегка охромевшую лошадь – в поводу, мальчишка повел на дорогу, выискивая пологость подъема. Продираясь по тучному, росному дудняку, дядька Егор, до нитки мокрый и все время оскальзываясь и спотыкаясь лядащими ногами, одновременно желчно трунил над собой и сердито костерил своего ездового:
– Только еще третье утро войны, а мы по твоей милости уже выходим из окружения… Сусанин ты хренов, а не мужик, вот ты кто! – И с этими словами Мельников зашелся навзрыд, словно бы жалуясь глазастому солнцу, глядевшему на них – в удивлении спросонья – поверх шишаков елок над обочью оврага, как бы призывая его в свидетели:
– Да с кем я теперь остался-то, а? Как жить-воевать-то будем, а?
Кружным путем, наконец, выйдя на дорогу, они, давясь слезами вперемешку с соплями, принялись вызволять телегу из-под кручи с помощью лошади. По подсказке своего немало пожившего на свете и много повидавшего в жизни председателя «Родного», мальчишка приладил к гужу распущенные вожжи и на них они – с великими потугами – подняли наверх сперва передки, а затем и саму телегу, складывая ее в одно целое, благо шкворень не вывалился из своего гнезда и не затерялся в траве…
И кому было знать, что Крутой Ручей между деревень Глутно и Селищи в двадцати верстах от Частовы-Новин, через Подмошские болота с обитаемыми старообрядческими скитами, вскоре станет необоримой преградой для победоносного шествия на Восток грозного врага. В одну из ранних морозных ночей немцы по первольду захватят правый берег широкой северной реки. И на рассвете внезапно ворвутся на станцию Малая Вишера, замысливая сходу выйти во второй эшелон обороны уже определившегося Волховского Фронта. К бегучей реке Мста, правый берег которой мальчишки, их старшие сестры, молодые матери, оставившие детей на попечение старух всей глубинной прибрежной округи, отложив все колхозные дела, с Иванова дня до яблочного Спаса под началом молоденького лейтенанта с перевязанной рукой на черной помочи на груди будут «подпоясывать», будто комсоставским широким желтым кожаным ремнем, – противотанковым рвом. А когда он был уже готов, оказалось, – фу-ты, ну-ты! – по каким-то военно-стратегическим просчетам, укрепляли не тот берег.
Растерявшиеся от первых сокрушительных неудач наши стратеги во главе с военным наркомом Климом Лошадником, за какие-то немногие недели войны прохлопавшие половину стратегического царства-государства, в своих скудоумых головах, видно, открыли для себя тайные замыслы Гитлера, решившего повторить и улучшить планы великого Бонапарта Наполеона. Сперва надумал, мол, разделаться под орех с первопрестольной столицей, а затем, как бы вспять, двинуться по бывшей Николаевской «железке» и всей своей мощью навалиться на Северную Пальмиру.
Вот и ждали немцев в Предъильменье – подумать только! – не с Запада, а о Востока. А они, легко разметав все «замки и запоры» на «нерушимых границах западных», затем, подмяв сочувствующую к себе Прибалтику, с ходу вышли на охват в огненно-железные «клещи» дорогого всякому русскому сердцу города на Неве. И все праведно-ратные труды (воистину народного!) мальчишье-бабьего мстинского ополчения с лопатами в руках – пошли коту под хвост. То есть, вышли б не на пользу для обороняемых, а противу их.
Мстинские штатские ополченцы, как им приказывал раненый молоденький лейтенант с перебинтованной по локоть рукой и его поверяющие со «шпалами» и саперно-инженерными знаками отличия в петлицах, – обустраивали, по всем правилам военной фортификации, правый берег Мсты, а на поверку вышло, надо было б кромить заступами да ломами – левый: неподдатливый каменисто-глинистый Грешневский кряж. Левый, черт побери, левый!.. Ну да, что там, задним-то умом мы всегда были крепки…
Так в начале ранней зимы сорок первого немцы нежданно-негаданно – как снег на голову – оказались у Крутого Ручья, где всю ночь будет греметь жаркий бой, в котором непрошенных гостей отбросят на станцию Малая Вишера. А через какое-то время их снова водворят за реку Волхов, засадя в сырые окопы, в которых они потом будут воевать-горевать да вшей наживать без малого три года…
Рубеж у Крутого Ручья отстаивал и новинский красноармеец Филипп Голубев, который еще совсем недавно толково командовал бабьей ратью овощеводческой бригады, – непревзойденный косарь-машинист на сенокосилке. Отец троих чад. И лошадей умел блюсти, как никто другой в колхозе. Его бригадная пара гнедых с развалистыми от сытости крупами Мальчик и Копчик, которых он впрягал в сенокосилку, всегда была в теле и ухожена. Во время строжайшего карантина, наложенного на деревню в связи с наносной, повальной конской пошавой, он своих гнедых любимцев держал «по-единоличному» – у себя не подворье, что и сделало ему большую честь…
За отличие в том сражении у Крутого Ручья новинскому многоуважаемому однодеревенцу была предоставлена краткосрочная побывка в родных краях при личном оружии. Уже немногим старожилам деревни дано помнить, как он, Филипп Ионыч, в морозных сумерках, весь заиндевелый, поднялся на припорошенный первым хрустким снегом новинский кряж с окровавленной повязкой на голове, видневшейся из-под шапки, с отечественным (в диковину!) автоматом на плече. На зеленом брезентовом ремне, в желтой кожаной ножне висел кинжал-штык. А на груди колесом посверкивала при народившемся рогатом месяце совершенно новенькая медаль «За отвагу», которую, видно, гость-боец перед деревней перецепил с гимнастерки на нагольный полушубок под стать снегу, чтобы все однодеревенцы увидели в нем, что он – не просто вчерашний новинский рачительно-хозяйственный бригадир, а боевой ратник Отечества!
И как тут было не запеть на радостях новинским дружкам – Ионке Веснину и Михе Быкову, оставшимся в деревне за мужиков, встречный марш своему отважному земляку:
Красная Армия – всех сильней!
Красная Армия – всех сильней!
И от этой памятной встречи на речном кряжу новинским санапалам загорелось – хоть завтра! – пойти добровольцами на войну…
Но если сказать откровенно, первыми, кто выиграли бой у Крутого Ручья, уже на третье раннее утро Волховского фронта Великой войны, еще не значившегося ни в каких оперативно-стратегических планах – ни в наших, ни во вражьих штабах, были новинские однодеревенцы: зеленый подростыш по имени и прозванию Ионка-Весня и кособокий председатель – Родный. Вызволяя из-под кручи на перемычку насыпи по частям разъятую телегу, Егор Мельников разом осознал, с кем он теперь остался «крепить тыл обороны страны», а бабки Грушин санапал волыглазый разом отыграл все свои мальчишьи забавы «в войну». А когда она, непридуманная, кончится? Об этом никто не только не знал, но даже и не загадывал…
– Ну, родный, трогай с Богом! – дал «добро» председатель, оглядывая вокруг себя телегу, и испуганно просипел: – А гармонь-то, где? Неужто… на заулке Поперечной оставили?
– Да вона она, растянутая висит на сломанной ольшине! – радостно сообщил ездовой, соскакивая с телеги и кубарем скатываясь по насыпи, за пропажей.
– Ну и ну… – только и всего, что мог сказать оторопевший председатель, еле переводя дух от новой незадачи. На этот раз у него не нашлось даже нечаянного матюга. Он лишь только отрешенно поскорбел, обращаясь к благоразумию своего еще «необъезженного неука», с кем ему теперь надлежит крепить оборону страны. – Родный, да ты не торопись, а все делай поспешая. Послухай-ка, што я тебе щас скажу. Пока мы тут – телимся-не растелимся, а там-то, на границе, немцы-то, поди, прут и прут на своих ходких танках… Ведь они на них эдак сходу подмяли под себя всю Европу. Што-то, што-то теперь будет, а?..
Вот уже осталась позади, после Крутого Ручья, опрятная деревня Поддубье с веселыми голубыми резными наличниками, где жили скуповатые и ходкие на ногу маловишерские «молоконосы», которым пробежать пробежкой с берестяными заплечными кошелями на три четверных бутыли десять верст до рынка – не расстояние.
Мельников, глядучи со слезами на глазах на путанную расторопность своего ездового, видно, воспрял духом, что еще будет ему с кем «крепить тыл».
– Ну, родный, гляжу, с тобой не пропадешь, – сказал он, посмеиваясь своими карими, с теплинкой, глазами. – Хошь и прокатил ты председателя с ветерком по кустовью да овражью, но и сметку крестьянскую смекител. И как это ты, право, сумел ментом рассупонить лошадь-то вовремя, а? Не сделай этого враз – она могла б и задохнуться. Ничего не скажешь – молодчага-мужик!
– А-а-а, – махнул рукой мальчишка и нарочито обыденно ответил: – Делов-то, вспомнил папкин «узелок на память».
– Ишъ ты, – удивился Егор Якимыч, – Это, родный, горазд хоршо, когда есть чем вспомнить по-доброму своего папку.
Как только въехали в новинские заречные угодия, Мельников, уже обсохший на все жарче разгорающемся солнце ядреного военного лета, обратился к своему юному ездовому на полном серьезе, как к ровне:
– Дак, запевай, Гаврилыч! Папкину любимую песню запевай – она щас, как никогда, кстати. Да и в деревне пускай слышат: наши, мол, едут! Так уж у нас, новинских, заведено от веку. – И он первым затянул своим дребезжащим, как расщепленное полено, голосом:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне…
А в это время, как потом узнает поруганная держава, в Первопрестольной, на Белорусском вокзале, набирала силу уже другая, нашенская и про нас, песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
Отголоски же ее дойдут до мстинского убережья лишь в предзимье. Когда от перерезанной вражьим нашествием Октябрьской железной дороги в районе Чудово-Волхов, со станций от «Мстинского Моста» на Москву пойдут ночными лесными дорогами маршевые роты сибиряков к поверженному Граду Великому Новгороду. И каждая рота, вступая в деревню, пела эту песню, и староверка бабка Пелагея Абраменкова, соседка Весниных, крестясь, всякий раз узнавала ее:
– Дак это ж песня-то нашего Мастака: «Трансвааль, Трансвааль», которая и увела из деревни всех мужиков на войну.
– Она, она, – вторили ей новинские старухи, – только обернулась к нам новыми словами.
Тогда, в жаркие уже июльские дни, в Новины от Мастака пришел красноармейский «привет-треугольник» с поклонами всем однодеревенцам. Это было первое и последнее письмо Гаврилы-Мастака, в котором он, отдельно обращаясь к сыну, бодро писал ему перед своей отправкой на фронт, блюдя военную тайну: «… Сынка, ну вот, твой папка и получил свою заветную «швейную машинку». Через день-другой и к делу видно приступлю: строчить буду…» (А понимать надо было так: сын, получил я, мол, «максима»…) Во время летних военных сборов новинский Мастак был кадровым пулеметчиком, и «максим» ему был по плечу.
А в середине августа все того же черного года Мастака-пулеметчика уже не стало. Он сгинул на Ленинградском фронте… Правда, об этом во мстинской деревне узнают уже после войны из посмертного извещения, в котором говорилось, что он, «красноармеец Гаврила Веснин погиб смертью храбрых под Красным Селом 19 августа сорок первого года…»
В тот же срединный августовский жаркий день сорок первого пал и златоглавый Вечный Град – Новгород на-Волхове, временно вознесясь на небо в аспидно-жирных свивах чада, терпко пропахшего темными веками поколений русичей…
Глава 7
Дезертир
«Кони ржут – к добру»
(Народная примета)
Продираясь сквозь ольшаную чащину, на приречный угор выбрел, сильно припадая на задние ноги, корноухий чубарый коняга. Он был весь в запекшихся кровавых ссадинах, которые сплошь облепили зажившиеся в лете и потому в конец озверевшие, жирные, с позолотой на мохнатых брюхах, слепни. По коротко стриженым хвосту и гриве можно было догадаться, что это солдатский конь.
Почуяв знакомые речные запахи, шибанувшие ему в храп, чубарый вздрогнул. Вскинул понурую морду, воззрился на реку и, поставив уши-корноки топориками, радостно заржал: узнал родную поскотину.
Когда-то на первой своей траве он здесь резвился жеребенком-несмышленышем, доверчиво тычась мягкими губами в теплый и вкусно пахнувший молоком материнский пах… А несколькими неделями назад, в самую межень лета, его увели отсюда почти со всеми колхозными лошадями на большую человеческую бойню…
Из подгорья вместе с людской колготней доносилось напористое бренчание ботал. «Куда это так спешно гонят рогатых?!» – озадаченно подумал чубарый, потому как помнил: речное подгорье никогда не было прогоном. Прихомыляв к самому урезу кряжа, он вперился взглядом вниз, а там и в помине не было рогатых.
По всей излуке реки, до самой деревни и далее, копошились, будто мураши, люди: бабы, девки да мальчишки-подростыши. Кроме новинских, как отметил про себя чубарый, тут много было и пришлых. И все они, свои и чужие, с каким-то нечеловеческим упорством заступами кромили отвесно до самого испода крутой берег реки. И вот их-то заступы, натыкаясь на камни в песчаных суглинках, и бренчали многоязыко боталами большого коровьего стада.
Люди, занятые непостижимым для понимания лошади делом, долго не замечали прихода чубарого. Тогда он сам дал знать о себе. Кормясь по-над кряжем, стал громко фыркать с дороги.
– Бабы, глякось! – первой вскричала сухопарая женщина с высоко подоткнутым за пояс подолом, чтобы тот не мешал в работе. – Бабы-ы… – и у нее словно бы отняло язык.
– Ой-ой… мать твою!..
Так оно и случилось. Лошадь, предоставленная сама себе, рванула вскачь под гору Крутого Ручья, а опущенные вожжи, намотавшись на замазученную дегтем ступицу переднего колеса, резко затянули ее на сторону. И новинский малый ковчег горемык с полного маху ухнул с кручи насыпи перемычки над «трубой» – в тартарары, где телега, налету в свободном падении разъявшись с передками, повисла кверху колесами на сломанных ольшинах. Дядька Егор, слышно было, брязгался в воде в жерле оврага, чертыхаясь и кляня все и вся на свете. А незадачливый возница оказался перед самой мордой лошади, которая вместе с передками лежала на боку, удушливо храпя и беспомощно лягаясь в воздухе ногами, словно шла по стене к небу.
Вот тут-то и сгодился мальчишке отцовский «узелок на память»: дернул за конец супони, завязанной на «бантик», и лошадь сама распряглась. Затем и встала на ноги, с благодарностью отфыркиваясь за оказанную помощь. А ее ездовой тем временем скатился вниз – вызволять из жерла оврага знаменитого на весь район Мельникова.
Потом немощного председателя – под руку и слегка охромевшую лошадь – в поводу, мальчишка повел на дорогу, выискивая пологость подъема. Продираясь по тучному, росному дудняку, дядька Егор, до нитки мокрый и все время оскальзываясь и спотыкаясь лядащими ногами, одновременно желчно трунил над собой и сердито костерил своего ездового:
– Только еще третье утро войны, а мы по твоей милости уже выходим из окружения… Сусанин ты хренов, а не мужик, вот ты кто! – И с этими словами Мельников зашелся навзрыд, словно бы жалуясь глазастому солнцу, глядевшему на них – в удивлении спросонья – поверх шишаков елок над обочью оврага, как бы призывая его в свидетели:
– Да с кем я теперь остался-то, а? Как жить-воевать-то будем, а?
Кружным путем, наконец, выйдя на дорогу, они, давясь слезами вперемешку с соплями, принялись вызволять телегу из-под кручи с помощью лошади. По подсказке своего немало пожившего на свете и много повидавшего в жизни председателя «Родного», мальчишка приладил к гужу распущенные вожжи и на них они – с великими потугами – подняли наверх сперва передки, а затем и саму телегу, складывая ее в одно целое, благо шкворень не вывалился из своего гнезда и не затерялся в траве…
И кому было знать, что Крутой Ручей между деревень Глутно и Селищи в двадцати верстах от Частовы-Новин, через Подмошские болота с обитаемыми старообрядческими скитами, вскоре станет необоримой преградой для победоносного шествия на Восток грозного врага. В одну из ранних морозных ночей немцы по первольду захватят правый берег широкой северной реки. И на рассвете внезапно ворвутся на станцию Малая Вишера, замысливая сходу выйти во второй эшелон обороны уже определившегося Волховского Фронта. К бегучей реке Мста, правый берег которой мальчишки, их старшие сестры, молодые матери, оставившие детей на попечение старух всей глубинной прибрежной округи, отложив все колхозные дела, с Иванова дня до яблочного Спаса под началом молоденького лейтенанта с перевязанной рукой на черной помочи на груди будут «подпоясывать», будто комсоставским широким желтым кожаным ремнем, – противотанковым рвом. А когда он был уже готов, оказалось, – фу-ты, ну-ты! – по каким-то военно-стратегическим просчетам, укрепляли не тот берег.
Растерявшиеся от первых сокрушительных неудач наши стратеги во главе с военным наркомом Климом Лошадником, за какие-то немногие недели войны прохлопавшие половину стратегического царства-государства, в своих скудоумых головах, видно, открыли для себя тайные замыслы Гитлера, решившего повторить и улучшить планы великого Бонапарта Наполеона. Сперва надумал, мол, разделаться под орех с первопрестольной столицей, а затем, как бы вспять, двинуться по бывшей Николаевской «железке» и всей своей мощью навалиться на Северную Пальмиру.
Вот и ждали немцев в Предъильменье – подумать только! – не с Запада, а о Востока. А они, легко разметав все «замки и запоры» на «нерушимых границах западных», затем, подмяв сочувствующую к себе Прибалтику, с ходу вышли на охват в огненно-железные «клещи» дорогого всякому русскому сердцу города на Неве. И все праведно-ратные труды (воистину народного!) мальчишье-бабьего мстинского ополчения с лопатами в руках – пошли коту под хвост. То есть, вышли б не на пользу для обороняемых, а противу их.
Мстинские штатские ополченцы, как им приказывал раненый молоденький лейтенант с перебинтованной по локоть рукой и его поверяющие со «шпалами» и саперно-инженерными знаками отличия в петлицах, – обустраивали, по всем правилам военной фортификации, правый берег Мсты, а на поверку вышло, надо было б кромить заступами да ломами – левый: неподдатливый каменисто-глинистый Грешневский кряж. Левый, черт побери, левый!.. Ну да, что там, задним-то умом мы всегда были крепки…
Так в начале ранней зимы сорок первого немцы нежданно-негаданно – как снег на голову – оказались у Крутого Ручья, где всю ночь будет греметь жаркий бой, в котором непрошенных гостей отбросят на станцию Малая Вишера. А через какое-то время их снова водворят за реку Волхов, засадя в сырые окопы, в которых они потом будут воевать-горевать да вшей наживать без малого три года…
Рубеж у Крутого Ручья отстаивал и новинский красноармеец Филипп Голубев, который еще совсем недавно толково командовал бабьей ратью овощеводческой бригады, – непревзойденный косарь-машинист на сенокосилке. Отец троих чад. И лошадей умел блюсти, как никто другой в колхозе. Его бригадная пара гнедых с развалистыми от сытости крупами Мальчик и Копчик, которых он впрягал в сенокосилку, всегда была в теле и ухожена. Во время строжайшего карантина, наложенного на деревню в связи с наносной, повальной конской пошавой, он своих гнедых любимцев держал «по-единоличному» – у себя не подворье, что и сделало ему большую честь…
За отличие в том сражении у Крутого Ручья новинскому многоуважаемому однодеревенцу была предоставлена краткосрочная побывка в родных краях при личном оружии. Уже немногим старожилам деревни дано помнить, как он, Филипп Ионыч, в морозных сумерках, весь заиндевелый, поднялся на припорошенный первым хрустким снегом новинский кряж с окровавленной повязкой на голове, видневшейся из-под шапки, с отечественным (в диковину!) автоматом на плече. На зеленом брезентовом ремне, в желтой кожаной ножне висел кинжал-штык. А на груди колесом посверкивала при народившемся рогатом месяце совершенно новенькая медаль «За отвагу», которую, видно, гость-боец перед деревней перецепил с гимнастерки на нагольный полушубок под стать снегу, чтобы все однодеревенцы увидели в нем, что он – не просто вчерашний новинский рачительно-хозяйственный бригадир, а боевой ратник Отечества!
И как тут было не запеть на радостях новинским дружкам – Ионке Веснину и Михе Быкову, оставшимся в деревне за мужиков, встречный марш своему отважному земляку:
Красная Армия – всех сильней!
Красная Армия – всех сильней!
И от этой памятной встречи на речном кряжу новинским санапалам загорелось – хоть завтра! – пойти добровольцами на войну…
Но если сказать откровенно, первыми, кто выиграли бой у Крутого Ручья, уже на третье раннее утро Волховского фронта Великой войны, еще не значившегося ни в каких оперативно-стратегических планах – ни в наших, ни во вражьих штабах, были новинские однодеревенцы: зеленый подростыш по имени и прозванию Ионка-Весня и кособокий председатель – Родный. Вызволяя из-под кручи на перемычку насыпи по частям разъятую телегу, Егор Мельников разом осознал, с кем он теперь остался «крепить тыл обороны страны», а бабки Грушин санапал волыглазый разом отыграл все свои мальчишьи забавы «в войну». А когда она, непридуманная, кончится? Об этом никто не только не знал, но даже и не загадывал…
– Ну, родный, трогай с Богом! – дал «добро» председатель, оглядывая вокруг себя телегу, и испуганно просипел: – А гармонь-то, где? Неужто… на заулке Поперечной оставили?
– Да вона она, растянутая висит на сломанной ольшине! – радостно сообщил ездовой, соскакивая с телеги и кубарем скатываясь по насыпи, за пропажей.
– Ну и ну… – только и всего, что мог сказать оторопевший председатель, еле переводя дух от новой незадачи. На этот раз у него не нашлось даже нечаянного матюга. Он лишь только отрешенно поскорбел, обращаясь к благоразумию своего еще «необъезженного неука», с кем ему теперь надлежит крепить оборону страны. – Родный, да ты не торопись, а все делай поспешая. Послухай-ка, што я тебе щас скажу. Пока мы тут – телимся-не растелимся, а там-то, на границе, немцы-то, поди, прут и прут на своих ходких танках… Ведь они на них эдак сходу подмяли под себя всю Европу. Што-то, што-то теперь будет, а?..
Вот уже осталась позади, после Крутого Ручья, опрятная деревня Поддубье с веселыми голубыми резными наличниками, где жили скуповатые и ходкие на ногу маловишерские «молоконосы», которым пробежать пробежкой с берестяными заплечными кошелями на три четверных бутыли десять верст до рынка – не расстояние.
Мельников, глядучи со слезами на глазах на путанную расторопность своего ездового, видно, воспрял духом, что еще будет ему с кем «крепить тыл».
– Ну, родный, гляжу, с тобой не пропадешь, – сказал он, посмеиваясь своими карими, с теплинкой, глазами. – Хошь и прокатил ты председателя с ветерком по кустовью да овражью, но и сметку крестьянскую смекител. И как это ты, право, сумел ментом рассупонить лошадь-то вовремя, а? Не сделай этого враз – она могла б и задохнуться. Ничего не скажешь – молодчага-мужик!
– А-а-а, – махнул рукой мальчишка и нарочито обыденно ответил: – Делов-то, вспомнил папкин «узелок на память».
– Ишъ ты, – удивился Егор Якимыч, – Это, родный, горазд хоршо, когда есть чем вспомнить по-доброму своего папку.
Как только въехали в новинские заречные угодия, Мельников, уже обсохший на все жарче разгорающемся солнце ядреного военного лета, обратился к своему юному ездовому на полном серьезе, как к ровне:
– Дак, запевай, Гаврилыч! Папкину любимую песню запевай – она щас, как никогда, кстати. Да и в деревне пускай слышат: наши, мол, едут! Так уж у нас, новинских, заведено от веку. – И он первым затянул своим дребезжащим, как расщепленное полено, голосом:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне…
А в это время, как потом узнает поруганная держава, в Первопрестольной, на Белорусском вокзале, набирала силу уже другая, нашенская и про нас, песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
Отголоски же ее дойдут до мстинского убережья лишь в предзимье. Когда от перерезанной вражьим нашествием Октябрьской железной дороги в районе Чудово-Волхов, со станций от «Мстинского Моста» на Москву пойдут ночными лесными дорогами маршевые роты сибиряков к поверженному Граду Великому Новгороду. И каждая рота, вступая в деревню, пела эту песню, и староверка бабка Пелагея Абраменкова, соседка Весниных, крестясь, всякий раз узнавала ее:
– Дак это ж песня-то нашего Мастака: «Трансвааль, Трансвааль», которая и увела из деревни всех мужиков на войну.
– Она, она, – вторили ей новинские старухи, – только обернулась к нам новыми словами.
Тогда, в жаркие уже июльские дни, в Новины от Мастака пришел красноармейский «привет-треугольник» с поклонами всем однодеревенцам. Это было первое и последнее письмо Гаврилы-Мастака, в котором он, отдельно обращаясь к сыну, бодро писал ему перед своей отправкой на фронт, блюдя военную тайну: «… Сынка, ну вот, твой папка и получил свою заветную «швейную машинку». Через день-другой и к делу видно приступлю: строчить буду…» (А понимать надо было так: сын, получил я, мол, «максима»…) Во время летних военных сборов новинский Мастак был кадровым пулеметчиком, и «максим» ему был по плечу.
А в середине августа все того же черного года Мастака-пулеметчика уже не стало. Он сгинул на Ленинградском фронте… Правда, об этом во мстинской деревне узнают уже после войны из посмертного извещения, в котором говорилось, что он, «красноармеец Гаврила Веснин погиб смертью храбрых под Красным Селом 19 августа сорок первого года…»
В тот же срединный августовский жаркий день сорок первого пал и златоглавый Вечный Град – Новгород на-Волхове, временно вознесясь на небо в аспидно-жирных свивах чада, терпко пропахшего темными веками поколений русичей…
Глава 7
Дезертир
«Кони ржут – к добру»
(Народная примета)
Продираясь сквозь ольшаную чащину, на приречный угор выбрел, сильно припадая на задние ноги, корноухий чубарый коняга. Он был весь в запекшихся кровавых ссадинах, которые сплошь облепили зажившиеся в лете и потому в конец озверевшие, жирные, с позолотой на мохнатых брюхах, слепни. По коротко стриженым хвосту и гриве можно было догадаться, что это солдатский конь.
Почуяв знакомые речные запахи, шибанувшие ему в храп, чубарый вздрогнул. Вскинул понурую морду, воззрился на реку и, поставив уши-корноки топориками, радостно заржал: узнал родную поскотину.
Когда-то на первой своей траве он здесь резвился жеребенком-несмышленышем, доверчиво тычась мягкими губами в теплый и вкусно пахнувший молоком материнский пах… А несколькими неделями назад, в самую межень лета, его увели отсюда почти со всеми колхозными лошадями на большую человеческую бойню…
Из подгорья вместе с людской колготней доносилось напористое бренчание ботал. «Куда это так спешно гонят рогатых?!» – озадаченно подумал чубарый, потому как помнил: речное подгорье никогда не было прогоном. Прихомыляв к самому урезу кряжа, он вперился взглядом вниз, а там и в помине не было рогатых.
По всей излуке реки, до самой деревни и далее, копошились, будто мураши, люди: бабы, девки да мальчишки-подростыши. Кроме новинских, как отметил про себя чубарый, тут много было и пришлых. И все они, свои и чужие, с каким-то нечеловеческим упорством заступами кромили отвесно до самого испода крутой берег реки. И вот их-то заступы, натыкаясь на камни в песчаных суглинках, и бренчали многоязыко боталами большого коровьего стада.
Люди, занятые непостижимым для понимания лошади делом, долго не замечали прихода чубарого. Тогда он сам дал знать о себе. Кормясь по-над кряжем, стал громко фыркать с дороги.
– Бабы, глякось! – первой вскричала сухопарая женщина с высоко подоткнутым за пояс подолом, чтобы тот не мешал в работе. – Бабы-ы… – и у нее словно бы отняло язык.