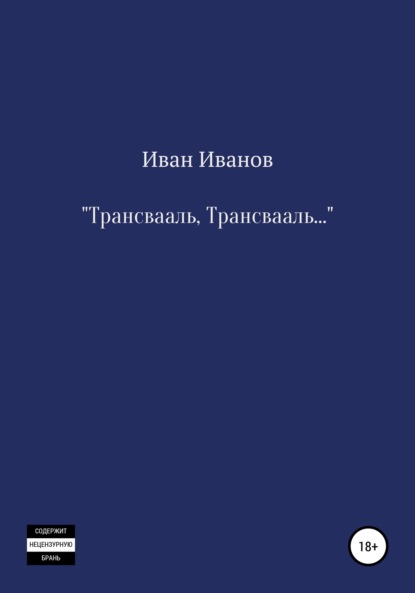По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Жена, живо – ножни! – выдохнул он с надсадом, нетерпеливо тряся расшиперенной ладонищей.
Жена Наталья то ли со сна, то ли о перепугу (таким взбеленившимся она, видно, еще не видела своего мужа-силача) подала ему подвернувшиеся под руку овечьи ножницы. Ими-то Мастак и отхватил вгорячах от себя на карточке своего задушевного дружка-приятеля, который, плавно кружась, как палый лист, лег к его раскоряченным ногам. А уж они ли не любили друг друга? Одних только песен у них было перепето за семейно-праздничными столами столько! – ни в один парный воз не увяжешь…
А когда у свежеиспеченного предРИКа Ивана Матвеевича скоропостижно умерла жена, простудившись крупозным воспалением легких при переезде на подводе в осеннюю распутицу к новому месту службы мужа, оставив ему двух маленьких дочек, дружище Мастак – по истечению положенного времени вдовства – сосватал ему в невесты первую красавицу деревни, гармонистову дочку, свою крестницу Катерину…
Потом он размашисто шагнул у угловому столику, где стоял дарственный патефон с открытой крышкой, сорвав с его круга любимую пластинку сына с боевым маршем легендарного Первого маршала Советского Союза: «Бейте с неба, самолеты, в бой идут большевики!» И к его ужасу разломил ее напополам, кидая на пол.
– Папка, ты что – ошалел? – кинулся с плачем к нему сын.
– Не убивайся, Ионка… это уже, как сказали мне, мусор Истории! Заклятые враги народа! – услышал в ответ сын какой-то чужой надрывный голос.
Оказывается, Мастака тайно вызвал в район кто-то из доброжелателей к бывшему хлебосольному председателю – «упредить», чтобы он убрал все улики каких-либо связей с его уже теперь бывшим дружком-приятелем Федоровым, «разоблачение» которого совпало по времени с «делом» маршала Блюхера…
Бабка Груша, домовая самодержица, метя веником пол, сокрушенно причитала:
– Вседержатель ты наш небесный, да неужто ты так ничегошеньки и не знаешь, не ведаешь, што деется-то у Тебя тутотка, на белом Свете?.. Выходит-таки, теперича на земле перевелись все твои крещеные. Остались одни волосатые вороги ведьминого опоросу!
Мальчишка увидел, как от этих слов отец его аж вздрогнул, замотав своей длинной лошадиной головой, будто здоровенный бык на заклании, очухавшийся от удара в межрожье деревянной, долбней-чекмарем, которым глушат рыбу на мелководьях по первольду. Потом он, резко сломавшись, нагнулся к полу и стал отчаянно выхватывать из-под бабкиного метущего веника «Мусор Истории». Затем сложил вместе обе половинки перерезанной фотокарточки к полукружьям сломанной пластинки и тут же упрятал во святая святых. На дно старинного, красного дерева, китайского ларца, где хранились в неистребимых ароматах «китайского» чая домовые «ценные бумаги». Это квитанции нескольких лет на сданные сельхопродукты с подворья «за так», с честью, по «соцобязательству»! В том же ароматно-запашистом ларце хранились вместо денег и никогда не выигравшие облигации разовых займов «ОСОАВИАХИМа», красиво разрисованные аэростатами, парашютистами в противогазах, самолетами, броневиками.
И, словно смертельно раненый медведь, Мастак, облапив своими жилистыми ручищами голову, заметался кругами по горнице, распаляя себя каким-то нечеловеческим надрывом:
– Не верю! Не ве-рр-ю-ю!..
Вот тогда-то сын и увидел своего отца, такого-то огромного мужичища, впервые в слезах.
И вот теперь, стоя на заулке Поперечной улицы зачуханного деревенского городка, – отец на коленях, сын в рост, – Ионка, приметив у родича свежую синеву на висках, стянул с его головы будничную кепку и не узнал своего любимого Коня Горбоносого без его, знакомой для него, косой темнорусой челки прямых волос (Мастак никогда не зачесывал волосы назад). Желая хоть как-то, развеселить отца, мальчишка шлепнул ладошкой по его стриженой маковке:
– Какой смешной-то ты, папка… как огурец стал!
– Так легче считать будет нас. К тому ж, всем-то одинаковым смелее будет ходить в атаку, – отшутился отец, вставая с колен на ноги.
– А Коленьку-то Лещикова хоть взяли в РККА? – спросил сын, чтобы поддержать мужской разговор.
– Взяли, сынка, не поглядели, что наш новобранец вышел ростом с наперсток. На войне, как на войне, все годятся для огуречного счета и чеха для атаки. – И отец, резко передернув плечами, насухо оттер кулаком глаза, сетуя сыну, как ровне своей: – Фу, как разнюнился, аж самому с души воротит… – И совсем серьезно добавил: – Ну, а мамке-то об этом совсем не обязательно говорить. Так уж как-то само получилось.
– Папка, Конь Горбоносый, чо ты маешься-то здря. Матюгнись ты, как следно, и тебе полегчает, – по-взрослому и по-свойски дал совет сын отцу, как у них было заведено шутить. Мастак не любил, да и не умел сквернословить: при его могутной стати с величавым горбатым носом божьего воина с копьем на длинном лошадином обличии это было как-то – «не к лицу». А если, когда бывало и вспылит: «Маткин берег – батькин край!» – разве это матюг? К тому же еще и не свой, перенятый у колхозного конюха Матюхи Сидоркина.
От такой сыновьей подсказки отец сграбастал сына в охапку и закружился с ним, как с маленьким, на заулке, громко, сквозь слезы, не то плача, не то хохоча:
– Сынка, я и не догадывался, какой чудной-то ты у меня растешь!
И мальчишке, казалось, что он не на отцовских руках сидит, а кружится верхом на весеннем грохочущем громе, чувствуя, как на его непокрытую двухвихровую маковку льется теплый дождь из отцовских слов: – Да как же мне теперь, кровушка ты моя, расстаться-то с тобой, а?
И вот, как бы «понарошке» всласть поборовшись, как любили – еще несколькими днями назад – дурачиться у себя дома в ожидании ужина, отец и сын продолжили извечное мужское дело – запрягать лошадь. Старший Мастак незаметно подмогнул перекинуть заведенную одним концом в гуж тяжелую дугу, и у Младшего сразу дело пошло на лад; а когда он стал засупонивать клещи хомута, тот подсказал завязать супонь на «бантик». И показал, как это делается:
– Это тебе, сын, «узелок» на память. Мало ль какая беда может приключиться в дороге.
А вот как расстались они в последнюю минуту, у мальчишки начисто выпало из головы, о чем будет потом сожалеть всю жизнь. Только одного не знал тогда он, свято веруя в свою «вечность», а сколько ж этой жизни ему будет отмерено в рушащемся мире?
Очнулся мальчишка в горьких слезах, лежа ничком на привяленной траве на дне телеги. Видно, уложил его в нее отец при своем уходе. И его сразу же обарило тоской: «Как же я теперь буду жить-то, а?.. Без своего папки-Коня Горбоносого, дядьки-крестного Данилы-Причумажного, старшего дружка-весельчака Коляна-Громоотвода и всех-всех однодеревенцев?..»
А на станции, казалось, совсем рядом гремела духовая музыка, которая и разбудила его, трубно выговаривая словами:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне…
Видать, новинские неуемные певуны, уходя в свое Бессмертие, достали-таки своей полюбившейся песней до самых печенок городских железнодорожных трубачей, которые с ходу подхватили запоминающийся напев. Там же прерывисто-тревожно гудели как бы остановившиеся паровозы.
И только один протяжный гудок удалялся в сторону Мстинского Моста: подальше от войны… Это маловишерцы, а с ними и новинско-частовские однодеревенцы – мужики и парни уезжали в Чероповец на формирование. Чтобы уже через день-другой повернуть вспять навстречу своей грозной неминучей планиде под другую мелодию:
Дан приказ ему на Запад…
А через месяц с небольшим – и всего-то лишь! – после того, как рухнули наши «непреступные границы западные», эту песню суждено было допеть уже новинско-частовским девкам, которые с плачем и бранными пастушьими окриками погонят колхозных коров – в «глубокий тыл»:
Ей в другую сторону,
Уходили комсомольцы
На проклятую войну.
Здесь, в глубинке, которую можно наречь и сердцем России, на зеленом заулке Поперечной улицы, в великой скорби стояла старуха Анна Рязанова. Застигнутая на полдороге к огороду длинным убывающим печальным гудком, она истово обносила себя крестами и в полголоса просила высокие небеса:
– Осподи, спаси и оборони их – от всех напастей и напрасных смертей…
Председатель Мельников вернулся к мальчонке, куковавшему на Поперечной улице, уже поздно, еще больше прежнего кособочась и приволакивая ногой; и правая рука висела – плеть-плетью. На левом плече была гармонь Васеньки Ильина, чтобы он отвез ее гармонистовому сыну Ва?нюшке. От его прокуренных усов попахивало винцом, что говорило: новинский председатель проводил на войну своих однодеревенцев честь по чести… Понюхавший вволю пороху и отравляющих газов в первую мировую войну, а затем и в гражданскую немало помахавшей шашкой, он ошарашил вторично заждавшегося мальчишку новыми для него словами войны:
– Раз объявлена «тотальная мобилизация», видно, теперь не скоро закончится эта кровавая катавасия… К тому ж, и война будет иная. Еропланная, тут шутки прочь! Она всюду достанет – всех и вся своей длинной рукой, – сказал он устало, скорее для себя, словно бы продолжая разговор на вокзале со стариками после проводов земляков района на войну.
Широко оглядев над головой небо и убедившись, что оно пусто и немо в видимой обозримости, он снова тяжко вздохнул и только после этого соизволил узреть своего однодеревенца-ездового:
– Ну вот, родный (дядька Егор всех так называл: «родный, родная»), и остались теперь мы, тыловики, старые да малые.
И нещадно сопя, закурив, он снова как бы вернулся к прерванному разговору на вокзале со своими ровесниками-старичьем, доморощенными «международниками»:
– Вот она, родный, социализма-то, в деле! Оказывается, до поры, до времени все было на строгом учете, и как бы ни что и ни где не числясь. Но вот пришла большая беда в наш общий дом, и все нашлось… Как в песне: «Наш бронепозед на запасном пути!» – и мужики, и лошади, и телеги. Спешно погрузились в товарняки, и… ту-ту! Навстречу своей грозной судьбине! Ну-ка бы такое при царе-батюшке…
– Дядька Егор, да ты у нас! – восхитился мальчишка. И, не найдя другого возвышенного сравнения, с жаром выпалил: – Да ты у нас, дядька Егор Екимович, как на плакате в правлении – Клим Ворошилов с шашкой в руке, на вороном коне!
– Станешь и Цезарем, как только клюнет в одно, енто, место жареный петух, – недовольно проворчал Мельников, кособоко садясь на край телеги. – Поехали, ворошиловский стрелок, занимать оборону страны…
С этими невеселыми думами они – новинские однодеревенцы – и снялись со двора Анны Рязановой с улицы Поперечной, которых было ни много, ни мало ровно тринадцать, что говорило о сонливости его аборигенов, хоть бы чуть-чуть шевельнуть извилинами в голове… Улиц одинаковых, как две капли воды, с голубыми наличниками и некрашеными палисадниками, полнившимися роскошными, только что расцветающими георгинами летом, и осенью с непролазной грязью проезжей части улиц. А так как стояла макушка небывало жаркого лета, то и ехали они по затравенелой улице, по которой вольно разгуливали припозднившиеся гуси к куры, к себе домой на берега Мсты, в начисто обезмужиченную деревню, чтобы, как сказал немощный председатель, «Занимать оборону страны…»
Вотчину маловишерских железнодорожников, деревню Глутно, они проехали уже с первыми петухами. Морило в сон. Лошадь, воспользовавшись попустительством полусонного юного ездового, брела сама по себе, хватая на выбор макушки высоких трав, росших по обочине дороги. Мельников, не выдержав такого дорожного разгильдяйства, потребовал своей председательской властью навести порядок:
– Да ожги ты ее, каналью, кнутом!
Мальчишка хватился было за кнут и не нашарил его в телеге, чем вконец раздосадовал Егора Якимовича:
– Потерял, что ли?.. Да знаешь ли ты… остаться в дороге без кнута так же зазорно, как и потерять спьяну шапку. – И чихвостил он его, пока озверевшее на восходе солнца комарье не загнало председателя с головой под домотканное дерюжное покрывало.