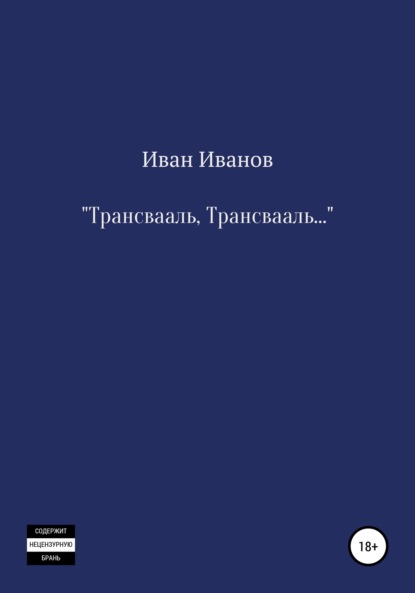По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После мрака подземелья мальчишка, словно заморенный зверек, впервые высунувшийся из своей норы после долгой зимы, жмурится от лавины малинового света. Над синими зубцами дальнего леса, из пепельно-сиреневой утренней хмари выкатывалось лохматое со сна солнце. Курился легкий парок над волглыми грядами чернеющих огородов, а под крутиком, по ту сторону ручья, все еще девственно синел большой сумет снега. В довоенные вёсны, как помнил Ионка, на нем бабка Груша отбеливала льняное суровье. Бывало, расстилает холсты по ноздреватому насту, а сама – знай задабривает весну: «Вот тебе, девушка-красна, мои – новины!» Эти же холсты она потом еще раз «выкидывала» на повторную отаву, выдерживая их на холодных росах до самых заморозков. И только после этого полотно делалось белее снега, храня хладность лунных ночей и тепло Ионкиных пяток (во время выстилки бабка разрешала ему побегать по полотну босиком). При этом не забывая строго напомнить: «Только пятки-то свои чумазые допрежь нашоркай с песком в ручье». Сколько себя помнил, без бабкиного дозволения он никогда не отваживался пробежать босыми ногами по «точеву». Это равно бы наследить чумазыми пятками по божьим небесам. На самом юру, как и в мирные вёсны, буйно купалась в золотистой стружке длинных сережек плакучая верба, которую бабка Груша по-свойски называла Старой Верой. А внизу напротив, под широкой лавой, вытесанной еще Ионкиным дедом Ионом Ионовичем – Кондой, в глубоком жерле ярился в белой пене ручей, деливший деревню надвое.
Мальчишка хотел было сойти на концы гряд попускать «челны», в бурную воду покидать щепки, но передумал: потом будет нелегко подняться на пепелище. В голове и без того шумело, будто в ней целый лес стонал на ветру. И нос заложило от земляной сырости – не продохнуть. И вот, потоптавшись под обгоревшей березой, он счел за благо сесть на большой корневой наплыв, выступавший из оттаявшей земли удобным седлом. А стоило ему привалиться спиной к нагретой солнцем корявой комлевой коре, обугленной пожаром, как по ослабленному его телу разлилась парным молоком сладостная истома. Мальчишка зазевал, запотягивался и тут же сомлел под убаюкивающее лопотание ручья. И, будто по щучьему велению, перенесло его в довоенную мирную жизнь… Стоит на школьных подмостках из сдвинутых парт и чешет стихи:
Я родился в день дождливый
Под осинкой молодой,
Круглый, гладенький, красивый,
С ножкой толстой и прямой…
А внизу, сидя на скамейках, ему хлопает, не жалея ладоней, вся деревня. Среди распаренных лиц Ионка разглядел и костистое лошадиное лицо своего отца. Хочет крикнуть ему: «Папка… Конь Горбоносый, это я!» А тот уже сам догадливо протягивает к нему через головы свои жилистые великаньи руки, в которые и прыгает бесстрашно сын со школьных подмостков, как в ворох свежеобмолоченной соломы. Кругом хохочут, а довольному мальчишке кажется, что он сидит уже не на отцовских руках, а едет верхом на громовом облаке…
А вот уже и другая перед ним картина: с отцом сидят за столом. Мужики ждут ужина. На отце чистая рубаха, от темно-русых волос пахнет речной ряской. Ионка силится вспомнить: почему он, пострел, прозевал купание? Побарахтаться с отцом в реке под вербами Вера-Любовь-Надежда для него было верхом блаженства. Отец подхватывал его на руки и заходил с ним на глубину «по самую бородку», где сильно кидал на быстрину. Потом он по-собачьи плыл к берегу, а отец кричал ему: «Руки-то кидай саженками! Саженками!»
Пока бабка гремела заслонкой в челе печи, отец читал газету. А он, сын, болтая под столом ногами, смотрел в окно на улицу – будто за день-деньской не набегался по ней – и, не замечая этого сам, щербил зубами края деревянной ложки.
За распахнутым настежь окном ворчливо погромыхивало. Это укатывалась за реку только что разродившаяся над деревней брюхатая туча гонобобельного цвета. А ей вослед ворчала бабка:
– Косари только вышли на луг, а бородатый Илья надумал объезжать лошадей на своей колеснице. У него все не так, как у людей: то дождя не допросишься, то зальет не вовремя. Зато, эва, смородина-то в подоконье распричиналась от мокроты – аж голову кружит.
Пройдут годы, десятилетия, за которые не минуют Ионку Веснина большие сломы судьбы, но в какую бы даль дальнюю не забросило его, этот запах – «распричинавшейся» черной смородины под отчим окном так и останется в нем жить неистребимым вечным духом: детства, родины и грохочущей грозы.
Над умытым зеленым заулком во влажном парном воздухе, густо напоенным настоями лугового разнотравья вперемежку с духом огородней овощи и терпкого листа черной смородины в подоконии, толклась мошкара живыми столбами. И мальчишка знал от бабки: «Толкунцы ромодят к сеногною». Но вот ему надоело смотреть на толкунцов.
Мальчишка перевел свой удивленно-задумчивый взгляд на соседские березы, где на поникших от дождя ветках макушек отдыхали пресытившиеся за день ласточки с белыми фартучками на грудках. Беззаботно щебеча своими щекотно-обморочными голосками, они словно бы судачили: какая будет назавтра погода – ведро или ненастье.
– Да не гляди подолгу-то на одно место, – предупреждает бабка. – Эдак недолго и чары наморочить на себя.
А внук и вправду любил засматриваться на то, что его зачаровывало, мечтательно залетая в своих мыслях – то птахой, то облаком, то ветром – не ведая куда…
Но вот отец отложил газету и давай двигать плечами – взад и вперед. Как бы давая понять сыну: «Ух, и ухайдакался ж сегодня твой папка!» «Ясное дело, что ухайдакался», – соглашается сын. Он знает: отец в жару и в стужу днями машет топором на стройке. А так двигать плечами ему «ндравится». Это было приглашение к нему, Ионке, побороться с ним. Сын вскочил на лавку ногами, широко развел руки, чтобы помериться силой с отцом, а того и след простыл. Будто он, его любимый папка Конь Горбоносый, и не сидел с ним рядом перед распахнутым настежь окном, за которым обвально грохотало лето.
И тут мальчишка увидел, как медленно распахнулась дверь, впуская из темных сеней белые клубы холода, а из них… выпрастывался сумрачный отец в закаржавевшей инеем солдатской ушанке.
«Чёй-то дверь-то он не закрыл?» – подумал сын, видя, как следом за отцом в избу ворвалась бесноватая вьюга – и давай кружить вокруг бабки Груши, опутывая ее будто бы белой пряжей. И та тут же стала снежной бабой с чугуном в руках; печку сделала горой-ледянкой. А из отца, растерянно стоявшего посреди просторной кухни, служившей ему когда-то и столярной, вылепила белого горбоносого коня. Ну точь-в-точь похожего на его, Ионкиного, деревянного Снега, вытесанного еще дедом Кондой на забавы сыну Гаврюшке из свилеватого комля осины.
«Все замела, завьюжила белая круговерть, – сердится мальчишка, а сам думает: – Это пришла война…»
Видения мальчишки под горелой березой перебила соседская девочка, его сверстница Танька-Рыжуля.
– Вёсня (так звали мальчишку в деревне по его фамилии), ты чё во снях-то кричишь? – спросила она, прикладывая к его лбу ладошку. – Захворал?
– Исти хочет, вот и блазит его, – дала ответ за внука бабка Груша, выходя из землянки. В руках она держала сковороду с горкой иссиня-черных лепешек; их пекли в земляной деревне из сгнивших картофелин-парушек, добытых при перекапывании огородов. – Поешь, дак наваждение-то и пройдет.
Бабка Груша не обошла угощением и соседскую девчушку, которой, видно, как нельзя кстати пришлась лепешка.
– Сон сегодня видела: скворцы прилетели! – затараторила она, шаря глазами небо в надежде – не пролетит ли где жданная птица? – Только, думаю, что они теперь к нам никогда не прилетят.
– Вечно ты, Рыжуля, что-то придумаешь, – буркнул мальчишка, все еще находясь во власти своих видений.
– А как они найдут свою деревню, если все избы сгорели и березы стоят черные? – не сдавалась Танька.
– Тут не только птюшке, дак и человеку-то мудрено догадаться, што тутотки была деревня, – согласилась с девчушкой бабка Груша. – Все могет статься – и пролетят мимо нас наши скворки.
Все закрутили шеями. Выгоревшая дотла деревня сквозисто просматривалась на все четыре стороны. Даже как-то не верилось, что еще прошлой осенью здесь стояли домовитые избы с затейливым кружевом на окнах и крыльцах.
– А если и прилетят к нам скворцы, где жить станут? Даже на березах сгорели все скворешни, – попечалилась Танька.
– Да, скворец – птица с запросом, – согласилась бабка Груша. – Енто тебе не человек, которого злая судьбина загнала в землю, он и кукует там, как слепой крот. А скворцу – непременно подавай дом! – Она махнула рукой и побрела к себе в землянку, горестно причитая: – Умру, дак как жить-то станешь, санапал волыглазый?
– Да ну тебя! – недовольно крикнул вдогонку внук. – Заладила: «умру, умру». А я-то с кем тогда останусь?
– Со мной! – встрянула Танька, стаскивая с головы платок и ярко расцвев подсолнухом. – Вот кончится война – и женимся. Вместях-то веселей будет жить. – Невеста показала язык и потрусила под гору к ручью.
– Вот дура-то Рыжуля! – осердясь, проворчал «жених». Он тоже хотел сойти на концы гряд, но его так разморило на солнце, что было не шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Где-то кружил самолет, словно опутывая небо гудящими перед грозой невидимыми проводами. Проваливаясь вновь в сон-мороку, мальчишка вдруг услышал голос матери: «Обрадовались солнцу-то, разлетались, окаянные». «Наш!», – хочет успокоить ее сын, но нет голоса (ему, как и всем мальчишкам прифронтовой полосы, хотелось, чтобы в небе летали только наши самолеты). Оказывается, они копают картошку у себя на верхнем огороде, как и в тот день, когда прошлой осенью «мессеры» сожгли их деревню.
И это случилось в обеденное время. Мать, вымыв руки в ручье, пошла в избу помогать санитару кормить раненых (в их прифронтовой деревне расположился полевой медсанбат, поэтому в каждой избе было битком раненых). Мальчишка же, хотя и манила его солдатская мясная гороховница, которую где-то ел и его папка, боец-пулеметчик, остался на огороде. Пока не накормят раненых, ему, сыну первостатейного плотника и запевалы деревни, не след отираться около походной кухни на колесах, которая хоронилась на их заулке под вековыми березами.
И вот, дожидаясь, когда мать позовет обедать, Ионка стал пулять в небо мелкими картофелинами с длинного ивового прута. И так увлекся игрой, что даже не услышал самолетного гуда, пока не увидел, как из-за белых облаков выпали два «мессера»: с душераздирающим воем они валились на деревню, как голодные ястребы на купавшихся в песке бестолковых куриц. На острых рылах летящих чудищ, меченных на крылах черными крестами в ядовито-желтой обводке, как немигающие гляделки гадов, вдруг заплясали огненные жала, и небо, будто чайное блюдце, раскололось вдребезги от дробного гуканья. Полоснул косоногий свинцовый дождь, веером вспарывая драночные крыши изб и надворий, на которых от зажигательных пуль будто бы вспыхнули языки невидимых свеч. И вот уже в небо полетели первые огненные галки.
Мальчишка упал плашмя наземь и, перепугано вереща, пополз по промежку картофельных гряд, будто крот выискивая себе нору, чтобы забиться в землю и больше никогда не высовываться на свет Божий. А оказавшись у вербы Старая Вера, он тут же поднырнул со страху под живой ее сарафан. И там, как ему казалось, в безопасности, он вспомнил про своего Снега. Может, для кого-то – это деревянная лошадка на колесиках. Для него же, Ионки Веснина, Снег был всамделишным. Отцовский конь!
И вот, высунувшись из зеленого укрытия, чтобы ринуться спасать своего Снега, мальчишка оторопел: крыша их дома была уже объята пламенем. И еще он успел разглядеть в рушащемся на его глазах мире свою мать! Чернявую и красивую Дашу. (Это только бабка Груша называла свою невестку, как ему казалось, по-старушечьи – Дарьей). Она спускалась к ручью, поддерживая раненого красноармейца.
– Мам, я здесь! – крикнул сын из ветвей вербы, но из-за урчащего гула огня мать, видно, не расслышала его голоса.
Оставив у воды раненого, она бухнулась в жерло ручья, побарахталась там с головой и, снова взбежав к себе на полыхавшее подворье, бесстрашно метнулась в дымную избу. В тот самый миг, когда над оголившимися стропилами с оглушительным хлопком взметнулось объятое огнем белое облако. То полыхнула вся разом снизу доверху пожухлая от жара листва на березе в подоконье, а мальчишке, обезумевшему от страха, показалось, что это вырвался из полымя его деревянный конь Снег и поскакал по небу в сторону леса, подступавшего к огородам вересковыми зарослями. Ионка выскочил из своего зеленого укрытия плакучей вербы и тоже побежал прочь от полыхавшей пожарищем деревни вослед коню-облаку. За ним увязался и откуда-то объявившийся их, веснинский, белоголовый пес Узнай.
Бабки Груши во время пожара не было в деревне. С другой невесткой на сносях Пашей, женой младшего сына Данилы, собирали бруснику на дальней вырубке. И вот, когда она одышисто присеменила на зарево, высоко вздынувшееся над лесом, с мыслью «успеть бы хошь вынести из избы иконы», деревни-то уже не было.
– Как святой дух отлетели на небушко наши Новины, – крестилась она, видя вместо изб догорающие головешки. Если ж русские деревни деревянные горят споро и начисто, то не в пример им – русские старухи: до чего ж в беде живучие!
Не успела бабка Груша опамятоваться, как ее тут же огорошила соседка:
– Крепись, кума… Старшая-то твоя невестушка Дарья в огне ить сгинула. Не в третий ли раз вбежала в полымную избу за ранеными, а потолок-то возьми и рухни… Так что крепись, кума, крепись…
Приковыляла из лесу и брюхатая невестка. И час от часа не легче. От всех бед, свалившихся на деревню и их семью, молодухе рожать приспичило до времени.
Роды у невестки свекровь приняла под живым сарафаном Старой Веры; плакучая верба стала теперь их домом. А управившись с повивальными хлопотами, она ужаленно спохватилась: «Внук-то где?» И соседи, сколько ни расспрашивала, не видели, куда подевался ее санапал волыглазый. Вот тут-то и допекло бабку Грушу:
– Ох, тошнехонько мне!.. – взвыла она подстреленной волчицей. – Да пошто ж медведь-батюшка не заломал-то меня в лесу?
И тут же стала корить небо, тыча в него своим землистым перстом:
– А ты-то, Осподи, где был? Пошто ж не заступился за своих крещеных? Нету у тебя милосердия к людям, нетути…
Но сколько ни охай, сколько ни проси милосердия у неба, а жить-то надо было. И бабка Груша, глядя на вечер, собралась на розыски пропавшего внука. Обошла гумна, сараи. Потом, аукая, начала шарить подступавший к задам огородов лес.
А внук нашелся лишь на второе утро. В дальнем гибельном логу, куда он с перепугу увязался за конем-облаком. Спасибо белоухому Узнаю, который своим лаем на гулкой заре оповестил хозяйку о себе.
Мальчишка хотел было сойти на концы гряд попускать «челны», в бурную воду покидать щепки, но передумал: потом будет нелегко подняться на пепелище. В голове и без того шумело, будто в ней целый лес стонал на ветру. И нос заложило от земляной сырости – не продохнуть. И вот, потоптавшись под обгоревшей березой, он счел за благо сесть на большой корневой наплыв, выступавший из оттаявшей земли удобным седлом. А стоило ему привалиться спиной к нагретой солнцем корявой комлевой коре, обугленной пожаром, как по ослабленному его телу разлилась парным молоком сладостная истома. Мальчишка зазевал, запотягивался и тут же сомлел под убаюкивающее лопотание ручья. И, будто по щучьему велению, перенесло его в довоенную мирную жизнь… Стоит на школьных подмостках из сдвинутых парт и чешет стихи:
Я родился в день дождливый
Под осинкой молодой,
Круглый, гладенький, красивый,
С ножкой толстой и прямой…
А внизу, сидя на скамейках, ему хлопает, не жалея ладоней, вся деревня. Среди распаренных лиц Ионка разглядел и костистое лошадиное лицо своего отца. Хочет крикнуть ему: «Папка… Конь Горбоносый, это я!» А тот уже сам догадливо протягивает к нему через головы свои жилистые великаньи руки, в которые и прыгает бесстрашно сын со школьных подмостков, как в ворох свежеобмолоченной соломы. Кругом хохочут, а довольному мальчишке кажется, что он сидит уже не на отцовских руках, а едет верхом на громовом облаке…
А вот уже и другая перед ним картина: с отцом сидят за столом. Мужики ждут ужина. На отце чистая рубаха, от темно-русых волос пахнет речной ряской. Ионка силится вспомнить: почему он, пострел, прозевал купание? Побарахтаться с отцом в реке под вербами Вера-Любовь-Надежда для него было верхом блаженства. Отец подхватывал его на руки и заходил с ним на глубину «по самую бородку», где сильно кидал на быстрину. Потом он по-собачьи плыл к берегу, а отец кричал ему: «Руки-то кидай саженками! Саженками!»
Пока бабка гремела заслонкой в челе печи, отец читал газету. А он, сын, болтая под столом ногами, смотрел в окно на улицу – будто за день-деньской не набегался по ней – и, не замечая этого сам, щербил зубами края деревянной ложки.
За распахнутым настежь окном ворчливо погромыхивало. Это укатывалась за реку только что разродившаяся над деревней брюхатая туча гонобобельного цвета. А ей вослед ворчала бабка:
– Косари только вышли на луг, а бородатый Илья надумал объезжать лошадей на своей колеснице. У него все не так, как у людей: то дождя не допросишься, то зальет не вовремя. Зато, эва, смородина-то в подоконье распричиналась от мокроты – аж голову кружит.
Пройдут годы, десятилетия, за которые не минуют Ионку Веснина большие сломы судьбы, но в какую бы даль дальнюю не забросило его, этот запах – «распричинавшейся» черной смородины под отчим окном так и останется в нем жить неистребимым вечным духом: детства, родины и грохочущей грозы.
Над умытым зеленым заулком во влажном парном воздухе, густо напоенным настоями лугового разнотравья вперемежку с духом огородней овощи и терпкого листа черной смородины в подоконии, толклась мошкара живыми столбами. И мальчишка знал от бабки: «Толкунцы ромодят к сеногною». Но вот ему надоело смотреть на толкунцов.
Мальчишка перевел свой удивленно-задумчивый взгляд на соседские березы, где на поникших от дождя ветках макушек отдыхали пресытившиеся за день ласточки с белыми фартучками на грудках. Беззаботно щебеча своими щекотно-обморочными голосками, они словно бы судачили: какая будет назавтра погода – ведро или ненастье.
– Да не гляди подолгу-то на одно место, – предупреждает бабка. – Эдак недолго и чары наморочить на себя.
А внук и вправду любил засматриваться на то, что его зачаровывало, мечтательно залетая в своих мыслях – то птахой, то облаком, то ветром – не ведая куда…
Но вот отец отложил газету и давай двигать плечами – взад и вперед. Как бы давая понять сыну: «Ух, и ухайдакался ж сегодня твой папка!» «Ясное дело, что ухайдакался», – соглашается сын. Он знает: отец в жару и в стужу днями машет топором на стройке. А так двигать плечами ему «ндравится». Это было приглашение к нему, Ионке, побороться с ним. Сын вскочил на лавку ногами, широко развел руки, чтобы помериться силой с отцом, а того и след простыл. Будто он, его любимый папка Конь Горбоносый, и не сидел с ним рядом перед распахнутым настежь окном, за которым обвально грохотало лето.
И тут мальчишка увидел, как медленно распахнулась дверь, впуская из темных сеней белые клубы холода, а из них… выпрастывался сумрачный отец в закаржавевшей инеем солдатской ушанке.
«Чёй-то дверь-то он не закрыл?» – подумал сын, видя, как следом за отцом в избу ворвалась бесноватая вьюга – и давай кружить вокруг бабки Груши, опутывая ее будто бы белой пряжей. И та тут же стала снежной бабой с чугуном в руках; печку сделала горой-ледянкой. А из отца, растерянно стоявшего посреди просторной кухни, служившей ему когда-то и столярной, вылепила белого горбоносого коня. Ну точь-в-точь похожего на его, Ионкиного, деревянного Снега, вытесанного еще дедом Кондой на забавы сыну Гаврюшке из свилеватого комля осины.
«Все замела, завьюжила белая круговерть, – сердится мальчишка, а сам думает: – Это пришла война…»
Видения мальчишки под горелой березой перебила соседская девочка, его сверстница Танька-Рыжуля.
– Вёсня (так звали мальчишку в деревне по его фамилии), ты чё во снях-то кричишь? – спросила она, прикладывая к его лбу ладошку. – Захворал?
– Исти хочет, вот и блазит его, – дала ответ за внука бабка Груша, выходя из землянки. В руках она держала сковороду с горкой иссиня-черных лепешек; их пекли в земляной деревне из сгнивших картофелин-парушек, добытых при перекапывании огородов. – Поешь, дак наваждение-то и пройдет.
Бабка Груша не обошла угощением и соседскую девчушку, которой, видно, как нельзя кстати пришлась лепешка.
– Сон сегодня видела: скворцы прилетели! – затараторила она, шаря глазами небо в надежде – не пролетит ли где жданная птица? – Только, думаю, что они теперь к нам никогда не прилетят.
– Вечно ты, Рыжуля, что-то придумаешь, – буркнул мальчишка, все еще находясь во власти своих видений.
– А как они найдут свою деревню, если все избы сгорели и березы стоят черные? – не сдавалась Танька.
– Тут не только птюшке, дак и человеку-то мудрено догадаться, што тутотки была деревня, – согласилась с девчушкой бабка Груша. – Все могет статься – и пролетят мимо нас наши скворки.
Все закрутили шеями. Выгоревшая дотла деревня сквозисто просматривалась на все четыре стороны. Даже как-то не верилось, что еще прошлой осенью здесь стояли домовитые избы с затейливым кружевом на окнах и крыльцах.
– А если и прилетят к нам скворцы, где жить станут? Даже на березах сгорели все скворешни, – попечалилась Танька.
– Да, скворец – птица с запросом, – согласилась бабка Груша. – Енто тебе не человек, которого злая судьбина загнала в землю, он и кукует там, как слепой крот. А скворцу – непременно подавай дом! – Она махнула рукой и побрела к себе в землянку, горестно причитая: – Умру, дак как жить-то станешь, санапал волыглазый?
– Да ну тебя! – недовольно крикнул вдогонку внук. – Заладила: «умру, умру». А я-то с кем тогда останусь?
– Со мной! – встрянула Танька, стаскивая с головы платок и ярко расцвев подсолнухом. – Вот кончится война – и женимся. Вместях-то веселей будет жить. – Невеста показала язык и потрусила под гору к ручью.
– Вот дура-то Рыжуля! – осердясь, проворчал «жених». Он тоже хотел сойти на концы гряд, но его так разморило на солнце, что было не шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Где-то кружил самолет, словно опутывая небо гудящими перед грозой невидимыми проводами. Проваливаясь вновь в сон-мороку, мальчишка вдруг услышал голос матери: «Обрадовались солнцу-то, разлетались, окаянные». «Наш!», – хочет успокоить ее сын, но нет голоса (ему, как и всем мальчишкам прифронтовой полосы, хотелось, чтобы в небе летали только наши самолеты). Оказывается, они копают картошку у себя на верхнем огороде, как и в тот день, когда прошлой осенью «мессеры» сожгли их деревню.
И это случилось в обеденное время. Мать, вымыв руки в ручье, пошла в избу помогать санитару кормить раненых (в их прифронтовой деревне расположился полевой медсанбат, поэтому в каждой избе было битком раненых). Мальчишка же, хотя и манила его солдатская мясная гороховница, которую где-то ел и его папка, боец-пулеметчик, остался на огороде. Пока не накормят раненых, ему, сыну первостатейного плотника и запевалы деревни, не след отираться около походной кухни на колесах, которая хоронилась на их заулке под вековыми березами.
И вот, дожидаясь, когда мать позовет обедать, Ионка стал пулять в небо мелкими картофелинами с длинного ивового прута. И так увлекся игрой, что даже не услышал самолетного гуда, пока не увидел, как из-за белых облаков выпали два «мессера»: с душераздирающим воем они валились на деревню, как голодные ястребы на купавшихся в песке бестолковых куриц. На острых рылах летящих чудищ, меченных на крылах черными крестами в ядовито-желтой обводке, как немигающие гляделки гадов, вдруг заплясали огненные жала, и небо, будто чайное блюдце, раскололось вдребезги от дробного гуканья. Полоснул косоногий свинцовый дождь, веером вспарывая драночные крыши изб и надворий, на которых от зажигательных пуль будто бы вспыхнули языки невидимых свеч. И вот уже в небо полетели первые огненные галки.
Мальчишка упал плашмя наземь и, перепугано вереща, пополз по промежку картофельных гряд, будто крот выискивая себе нору, чтобы забиться в землю и больше никогда не высовываться на свет Божий. А оказавшись у вербы Старая Вера, он тут же поднырнул со страху под живой ее сарафан. И там, как ему казалось, в безопасности, он вспомнил про своего Снега. Может, для кого-то – это деревянная лошадка на колесиках. Для него же, Ионки Веснина, Снег был всамделишным. Отцовский конь!
И вот, высунувшись из зеленого укрытия, чтобы ринуться спасать своего Снега, мальчишка оторопел: крыша их дома была уже объята пламенем. И еще он успел разглядеть в рушащемся на его глазах мире свою мать! Чернявую и красивую Дашу. (Это только бабка Груша называла свою невестку, как ему казалось, по-старушечьи – Дарьей). Она спускалась к ручью, поддерживая раненого красноармейца.
– Мам, я здесь! – крикнул сын из ветвей вербы, но из-за урчащего гула огня мать, видно, не расслышала его голоса.
Оставив у воды раненого, она бухнулась в жерло ручья, побарахталась там с головой и, снова взбежав к себе на полыхавшее подворье, бесстрашно метнулась в дымную избу. В тот самый миг, когда над оголившимися стропилами с оглушительным хлопком взметнулось объятое огнем белое облако. То полыхнула вся разом снизу доверху пожухлая от жара листва на березе в подоконье, а мальчишке, обезумевшему от страха, показалось, что это вырвался из полымя его деревянный конь Снег и поскакал по небу в сторону леса, подступавшего к огородам вересковыми зарослями. Ионка выскочил из своего зеленого укрытия плакучей вербы и тоже побежал прочь от полыхавшей пожарищем деревни вослед коню-облаку. За ним увязался и откуда-то объявившийся их, веснинский, белоголовый пес Узнай.
Бабки Груши во время пожара не было в деревне. С другой невесткой на сносях Пашей, женой младшего сына Данилы, собирали бруснику на дальней вырубке. И вот, когда она одышисто присеменила на зарево, высоко вздынувшееся над лесом, с мыслью «успеть бы хошь вынести из избы иконы», деревни-то уже не было.
– Как святой дух отлетели на небушко наши Новины, – крестилась она, видя вместо изб догорающие головешки. Если ж русские деревни деревянные горят споро и начисто, то не в пример им – русские старухи: до чего ж в беде живучие!
Не успела бабка Груша опамятоваться, как ее тут же огорошила соседка:
– Крепись, кума… Старшая-то твоя невестушка Дарья в огне ить сгинула. Не в третий ли раз вбежала в полымную избу за ранеными, а потолок-то возьми и рухни… Так что крепись, кума, крепись…
Приковыляла из лесу и брюхатая невестка. И час от часа не легче. От всех бед, свалившихся на деревню и их семью, молодухе рожать приспичило до времени.
Роды у невестки свекровь приняла под живым сарафаном Старой Веры; плакучая верба стала теперь их домом. А управившись с повивальными хлопотами, она ужаленно спохватилась: «Внук-то где?» И соседи, сколько ни расспрашивала, не видели, куда подевался ее санапал волыглазый. Вот тут-то и допекло бабку Грушу:
– Ох, тошнехонько мне!.. – взвыла она подстреленной волчицей. – Да пошто ж медведь-батюшка не заломал-то меня в лесу?
И тут же стала корить небо, тыча в него своим землистым перстом:
– А ты-то, Осподи, где был? Пошто ж не заступился за своих крещеных? Нету у тебя милосердия к людям, нетути…
Но сколько ни охай, сколько ни проси милосердия у неба, а жить-то надо было. И бабка Груша, глядя на вечер, собралась на розыски пропавшего внука. Обошла гумна, сараи. Потом, аукая, начала шарить подступавший к задам огородов лес.
А внук нашелся лишь на второе утро. В дальнем гибельном логу, куда он с перепугу увязался за конем-облаком. Спасибо белоухому Узнаю, который своим лаем на гулкой заре оповестил хозяйку о себе.